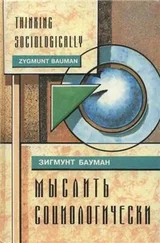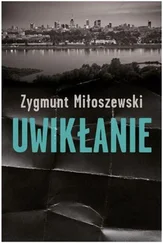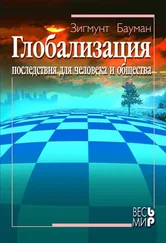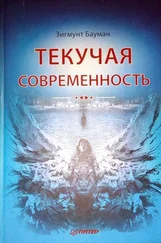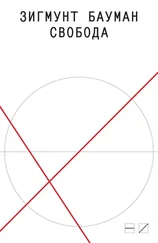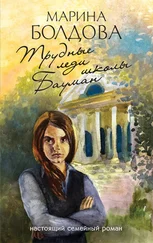В 1975-1976 гг. Элиас Канетти издал сборник своих эссе, написанных на протяжении двадцати шести лет, под названием Das Gewissen der Worte («Совесть слова»). По его собственным словам, он намеревался вспомнить, пересмотреть и заново обдумать немногие сохранившиеся (и все более редкие) «духовные модели» из числа создававшихся и практиковавшихся в прежние эпохи («до оставшегося не замеченным ими наступления одной из самых мрачных эпох в истории человечества»), не вполне утратившие свою «полезность» (читай: способность вдохновлять и стать руководством к действию) даже в наше «чудовищное столетие», когда «враги человечества» подошли сверхъестественно близко к уничтожению мира.
Этот сборник открывается речью о профессии писателя, произнесенной Канетти в январе 1976 г. в Мюнхене. В этой речи он ставит вопрос, есть ли в нынешней ситуации что-то, «в чем писатели или те, кого прежде считали писателями, могут принести хоть какую-либо пользу». В качестве отправной точки он выбрал заявление, сделанное неизвестным автором 23 августа 1939 г.: «Все кончено. Будь я настоящим писателем, то сумел бы предотвратить войну», — заявление, интересное, по его мнению, по двум причинам.
Во-первых, оно начинается с того, что ситуация признается безнадежной: предотвращение войны снято с повестки дня — так или иначе, «все кончено», не осталось никаких шансов и надежд на то, что удастся остановить надвигающуюся катастрофу, мы достигли предела своих возможностей к действию; хотя все это — отнюдь не причина полагать, что это грозное бедствие не могло в какой-то момент быть предотвращено, что у нас никогда не было возможностей для его предотвращения и что мы никогда не смогли бы их найти и выбрать. Поражение не означает, что одолеть приближающуюся катастрофу было невозможно — из него следует лишь то, что такой шанс по неведению или небрежности был упущен. Поражение необязательно доказывает бесполезность «духовной модели» (в данном случае — модели «настоящего писателя»); оно доказывает лишь недостаток стойкости и убежденности у тех, кто объявлял себя ее последователями.
Во-вторых, по утверждению автора данного анонимного заявления, единственная истина, перенесшая поражение без ущерба для себя, заключается в том, что писатель является «настоящим» в той — и только в той — степени, в какой сохранение благополучия или наступление катастрофы зависит от его слов. По сути, «настоящим» можно назвать лишь того писателя, который доказал свою непричастность к профессиональной ответственности писателей за состояние мира. Писателя делает «реальным» влияние слов на реальность , или, в формулировке Канетти, «желание взять на себя ответственность за все, что может быть выражено словами, и нести наказание в тех случаях, когда они — слова — терпят поражение».
Объединив оба этих соображения, Канетти оказался вправе сделать вывод о том, что «в наши дни нет писателей, но нам следовало бы страстно желать, чтобы они были». Учет этого желания означает дальнейшие попытки стать «настоящим» писателем, какими бы ничтожными ни были шансы на успех. «В мире, который так и тянет назвать слепейшим из миров, наличие людей, упорно настаивающих на возможности его изменения, приобретает первостепенное значение».
Добавим к этому, что возлагать на себя ответственность за состояние мира — акт откровенно иррациональный; однако решение поступить так, наряду с ответственностью за это решение и за его последствия, представляет собой последний шанс на то, чтобы спасти логику мира от слепоты, которую несут с собой ее убийственные и самоубийственные последствия.
Сказав, либо прочитав и обдумав все это, мы все равно не избавимся от тревожного и неприятного ощущения, внушающего нам, что мир попросту негостеприимен для «настоящих писателей», описанных Канетти. Похоже, что мир хорошо защищен не от катастроф, а от их пророков — в то время как обитатели этого хорошо защищенного мира, помимо тех из них, кому бесцеремонно отказано в праве на проживание, сами вполне защищены от того, чтобы пополнить (жалкие и ничтожные) ряды пророков, по одиночке вопиющих в своих пустынях. Как (увы, тщетно) старался напомнить нам Артур Кестлер, надуманная слепота передается по наследству... Накануне очередной катастрофы, «в 1933 году и в течение следующих двух-трех лет лишь несколько тысяч изгнанников хорошо представляли себе, что происходит в молодом Третьем рейхе», что обрекало их на «вечно непопулярную роль крикливой Кассандры» [см.: 19, р. 230-235]. Как отмечал тот же самый автор несколько лет спустя, в октябре 1938 г., «Амос, Осия, Иеремия были очень неплохими пропагандистами, и все же им не удалось встряхнуть свой народ и предупредить его. Говорят, голос Кассандры проникал сквозь стены, но это не предотвратило Троянской войны».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу