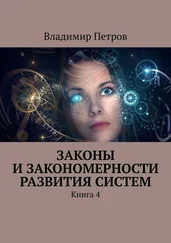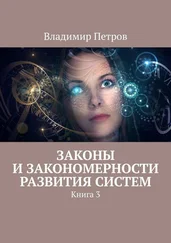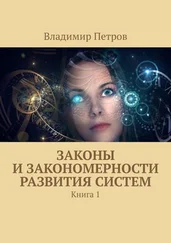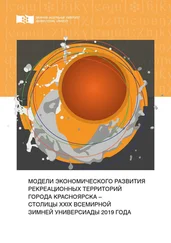Другим очевидным и опасным минусом этих городов был их бесконтрольный рост, который превращал их в оазисы нищеты и скученности из-за неразвитости городских сетей и общей низкой плотности городов, характерной для большинства вновь освободившихся стран. Кроме того, тени колониального прошлого ложились на старые столицы, оторванные от автохтонных политических и религиозных центров, устройство и уклад которых на протяжении длительных отрезков истории определялись господством иностранных завоевателей или задачами колонизации. В некоторых из этих столиц титульная нация или составляла меньшинство населения, или едва превосходила в численности другие этнические группы.
Градообразующие народы – китайцы в Юго-Восточной Азии (прежде всего, в Малайзии, Индонезии, Таиланде и на Филиппинах) [28], индусы и арабы в Восточной Африке, армяне в Закавказье, Турции и некоторых других регионах Азии, евреи – в Центральной и Восточной Европе, поляки в Украине и Литве – часто составляли большинство населения в самых крупных городах этих часто зависимых или полузависимых государств. Эти градообразующие народы нередко осуществляли контакты между колонизаторами и местным, преимущественно сельским, населением и воспринимались как народы-посредники.
Последующий опыт национального строительства и смены столиц в период после мировых войн и формального крушения мировой системы империализма как раз и был связан по преимуществу с постколониальными странами, в то время как в метрополиях столицы оставались гораздо более стабильными и статичными.
В государствах Восточной и Южной Европы происходили сходные процессы деколонизации и деимпериализации, которые, однако, обычно не сопровождались сменой политических столиц. Эти государства были колониями и полуколониями континентальных европейских империй или государств с сильными имперскими притязаниями – Османской и Российской империи, Австро-Венгрии, Пруссии (или Германской империи) или Швеции – и возникли на осколках и руинах этих континентальных империй. Три первые империи, пара двуглавых орлов и полумесяц, претендовали на наследие Византии, а Москва и Вена даже на статус Третьего Рима. По этой причине Россия и Австро-Венгрия украсили символ своей государственности византийским двуглавым орлом [29].
Тем не менее в некоторых отношениях ситуация в Восточной Европе была в чем-то сходна с ситуацией постколониальных народов Азии, Африки и Латинской Америки. К полуколониям, безусловно, относилась, например, Прибалтика, колонизация которой Пруссией была начата еще Тевтонским орденом и ливонскими рыцарями. В некоторых других отношениях ситуация стран Восточной Европы была близка и латиноамериканским странам: Восточная Европа была своего рода Южной Америкой по отношению к странам Западной Европы. Другим элементом, сближающим Восточную Европу с колониальными странами Азии и Африки, является не гражданский, а по преимуществу этнический характер развития местного национализма.
Эндогенное население восточноевропейских стран было в основном сельским, и в большинстве крупных городов демографически (и часто экономически) доминировали инородцы – евреи, немцы, поляки, русские, греки или мусульмане. Так, например, в Софии было больше евреев и мусульман, чем болгар. Бухарест по составу населения был в значительной степени греческим городом. Восточноевропейские города (от прибалтийских Таллина до Риги) и города Центральной Европы (от Будвы до Праги) были по преимуществу немецкими или немецкоязычными. В Варшаве четверть населения было еврейским, и город управлялся из Российской империи. Разговорным языком в Хельсинки был шведский. На рубеже XIX и XX веков более половины населения Минска (52 %) составляли евреи (перепись 1897 года). В 1897 году литовское население в Вильнюсе не превосходило двух процентов общего количества горожан, в то время как евреи составляли половину городских жителей. В Киеве было в два с половиной раза больше русских, чем украинцев (Therborn, 2006: 231). В Кишиневе в 1897 году доля молдаван не превышала 18 %, русское же население составляло 29 %, а еврейское – 47 % (Википедия).
В плане этнического состава населения сходная ситуация сложилась в столицах некоторых закавказских и среднеазиатских республик, впоследствии вошедших в состав СССР, – Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана. В 1897 году Тифлис был главным образом армянским городом, а грузинское население столицы Грузии составляло всего лишь 26 % от общего состава населения. В 1913 году доля тюркских мусульман в населении Баку не превосходила 21 % (Герасимов, 2004: 322). Похожая ситуация наблюдалась в государствах Средней Азии. В столице Узбекистана Самарканде основное население составляли таджики, что, возможно, послужило одним из мотивов переноса столицы в Ташкент в 1930 году. Столица Туркменистана Ашхабад была русско-персидским городом практически без туркменского населения, но со значительными вкраплениями этнических армян и азербайджанцев, что, вероятно, стимулировало дискуссии о возможном переносе столицы в Чарджоу в 1920-е годы (хотя доля его туркменского населения была тоже не слишком значительной). Даже в 1959 году доля таджикского населения в Душанбе, столице Таджикистана, не превышала 20 %.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
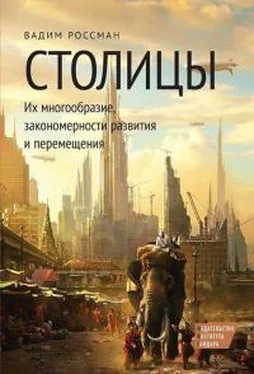
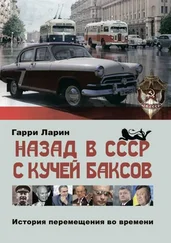
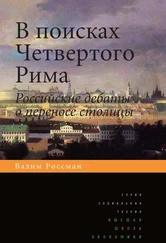

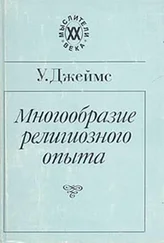

![Уилл Дюрант - Уроки истории [Закономерности развития цивилизации за 5000 лет]](/books/404194/uill-dyurant-uroki-istorii-zakonomernosti-razvitiya-thumb.webp)