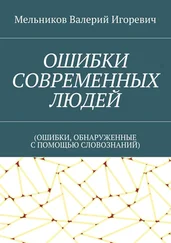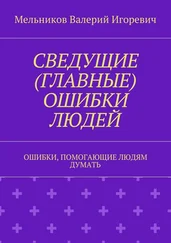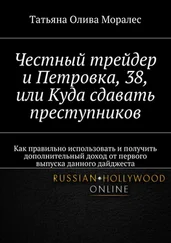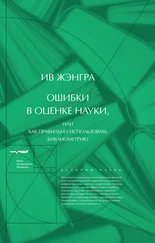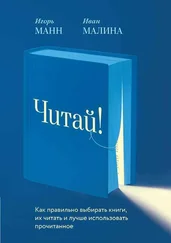Самым заметным изменением в устройстве мировой науки, по времени примерно совпавшим с разрушением советского блока, стало всеобщее и окончательное утверждение английского языка в качестве глобальной lingua franca научной коммуникации. Эта перемена отчасти отражает сдвиги в мировой политике и экономике, отчасти – собственную долговременную динамику производства науки и издания научных журналов. Исследованию тех напряжений, которые порождает тренд языковой унификации для крупных национальных научных систем – на примере России, а также размышлению о некоторых особенностях этого кейса и посвящено настоящее эссе.
Последние тридцать лет ознаменовались тем, что как отдельные академические институции, так и правительства стран стали ощущать нарастающий императив интернационализации . Причем это давление испытывают на себе не только развивающиеся, но и развитые в экономическом и научном отношении страны (такие, как Германия или Франция, Япония или Италия). Россия не является здесь исключением, хотя присоединилась к этому тренду позже многих других стран. К настоящему времени сформировался более или менее стандартный набор инструментов научной политики, направленных на интернационализацию национальной академической системы (наем иностранных профессоров и научных сотрудников, международное сотрудничество, стимулирование притока иностранных студентов, увеличение международной заметности научной продукции и т. д.). Несмотря на это, значение самого термина «интернационализация» до сих пор остается довольно смутным. Чаще всего этот термин ассоциируется с идеями мобильности, многонационального сотрудничества, а также с первоклассным уровнем исследований ( excellence ).
Хотя международная мобильность и сотрудничество, конечно, не новы, ранее не виданным в нынешней ситуации стало то, что в экспертно-управленческом дискурсе качество или уровень научных исследований той или иной страны или университета почти полностью совпали с уровнем его «интернационализации», объективированным в распределении мест в международных рейтингах. Ставкой в борьбе за ранг или место в рейтинге (к примеру, в Топ-100, волей правительства ставшем целью для пяти российских вузов), помимо символического престижа , являются средства национальных и международных фондов поддержки научных исследований, наконец доля на глобальном рынке высшего образования, который сегодня исчисляется десятками миллиардов долларов.
Одним из побочных эффектов этой жесткой конкуренции стала гонка за публикациями в «международных» научных журналах, учитываемых при определении места институции или страны в рейтингах. Наряду с такими нежелательными явлениями, как оппортунистическое поведение ученых, картели взаимного цитирования и другие практики искусственного наращивания импакт-фактора, появление хищнических журналов, готовых за плату опубликовать любую статью и т. д., можно наблюдать настоящую публикационную инфляцию, выражающуюся в непрерывном количественном росте печатной (или электронной) научной продукции. Увеличение видимой части этого айсберга подогревается деятельностью производителей баз научного цитирования (прежде всего Web of Science и ее европейского аналога – Scopus [195]), продвигающих свои весьма дорогостоящие продукты во все новых странах и участвующих в дискурсе интернационализации и excellence . Эти компании также продают разного рода информационные и аналитические продукты, создаваемые на основе хранящихся на их серверах метаданных о научных публикациях. Последние становятся все более востребованными в условиях публичной политики, нацеленной на интернационализацию науки. Иначе говоря, международные базы научного цитирования являются не просто орудиями, но и важнейшими игроками (и стейкхолдерами) в глобализации научной продукции. Прежде всего, именно они являются теми «сторожами», которые в конечном счете определяют, какое издание является «международным», а значит, качественным, а какое нет, принимая решение о включении того или иного журнала в свои базы данных (или об исключении из них). Журнальные рейтинги как таковые можно рассматривать в качестве производной от существования индексов цитирования, рассчитываемых владельцами баз данных научных публикаций.
Хотя коллаборативные проекты и исследования отличного качества могут проводиться исследователями с мировой периферии и быть опубликованы на их национальных языках, минимальное определение «международной» публикации предполагает английский язык. Именно журналы, выходящие на английском языке, имеют наибольший «импакт» [196], измеряемый ссылками в других научных журналах на опубликованные в них статьи. Безвозвратно ушло то время, когда американское правительство инвестировало средства в перевод научных публикаций на русском и других языках, предполагая, что в них могут содержаться значимые научные результаты, неизвестные в англоязычном мире. Сегодня любой важный, прорывной для своей научной области результат появляется сначала на английском языке в престижном журнале. Иначе говоря, американские или британские журналы автоматически считаются международными, хотя, строго говоря, они могут быть довольно локально ориентированными [197]. Несмотря на это, исследования, опубликованные на других языках и в других странах, по умолчанию рассматриваются как провинциальные и не имеющие всеобщего значения.
Читать дальше
![Ив Жангра Ошибки в оценке науки, или как правильно использовать библиометрию [калибрятина] обложка книги](/books/390964/iv-zhangra-oshibki-v-ocenke-nauki-ili-kak-pravilno-cover.webp)