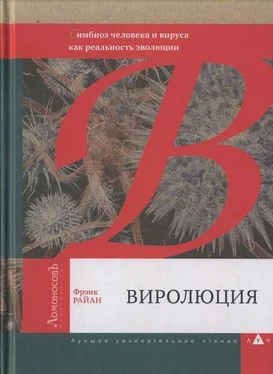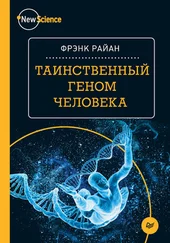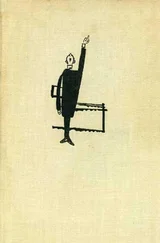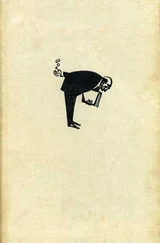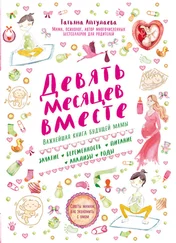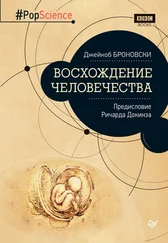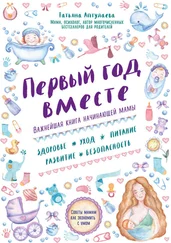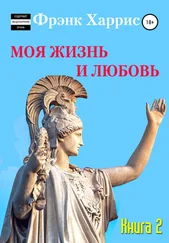До недавнего времени вирусологи полагали: подгруппа ретровирусов, известная как «лентивирусы» (включающая ВИЧ-1 и ВИЧ-2), — не подвержена эндогенизации, поскольку не было найдено ни единого примера эндогенизации лентивирусов. Но в 2007 году были опубликованы результаты совместного исследования ученых из Оксфордского и Стэндфордского университетов: у европейского кролика, Oryctolagus cuniculus, был обнаружен эндогенный лентивирус [32] Katzourakis A., Tristem М., Pybus O. G., Gifford R. J. Discovery and analysis of the first endogenous retrovirus. Proceedings of the National Academy of Sciences 2007; 104 (15): 6261–5.
. Затем в декабре 2008 года тот же коллектив сообщил об обнаружении первого случая эндогенизации лентивируса у примата, серого мышиного лемура Microcebus murinus, обитающего на Мадагаскаре [33] Gifford R. J., Katzourakis A., Tristem M., et al. A transitional endogenous lentivirus from the genome of a basal primate and implications for lentivirus evolution. Proceedings of the National Academy of Sciences 2008; 105 (51): 20 362-7.
.
В свете таких находок, а также учитывая пандемичность СПИДа и обилие вирусных остатков в человеческом геноме, напрашивается вывод о весьма важной роли ретровирусов в человеческой эволюции — причем роли, играемой прямо здесь и сейчас.
Изучая стремительно растущий корпус работ по эндогенным вирусам человека, я наткнулся на чрезвычайно оригинальные идеи Луиса Вильярреала, профессора Центра исследования вирусов и факультета молекулярной биологии и биохимии Калифорнийского университета. К моему удивлению и радости, я обнаружил: он был соавтором главы по эволюции вирусов в «Вирусологии» Филдса — настольной книги всех вирусологов. Более того, его исследовательские интересы были сосредоточены на явлениях самого глубинного уровня — молекулярной биологии и генетике вирусов, то есть там, где происходят интимнейшие явления генетического симбиоза. Но была еще одна, и даже более важная, причина, по какой я стал искать встречи с Луисом Вильярреалом. Вся его научная работа была посвящена детальному анализу эволюционного взаимодействия вирусов с их носителями, и, в частности, тому, как вирусы меняют эволюцию носителей. Несомненно, именно в этом направлении следует искать ключ к парадоксальной загадке, откуда столько вирусов в человеческом геноме. Я уверен, что ответ нельзя найти, рассматривая человечество само по себе, — его следует рассматривать исключительно как органичную часть всего живого на Земле.
Наш первый разговор мы начали с самых основ: когда и откуда явились вирусы?
— Тут есть, по мнению некоторых людей, дилемма, — заметил Вильярреал. — Вирус — паразит клетки. Следовательно, по их мнению, пока не образовались клетки, вирусов быть не могло. Но на самом деле вирусы могут паразитировать на любой способной к репликации системе, включая другие вирусы. В общих чертах, как только у вас появилось нечто способное к размножению, его может заразить вирус. В истории живого нет фиксированного момента, о котором можно сказать: «До него вирусов не было, а после — были». И в пребиотическом мире наверняка были генетические паразиты, паразиты всего, способного воспроизводить себя.
Мне стало любопытно, что же думает Вильярреал о распространенном убеждении многих генетиков и биологов о заимствовании современными вирусами генетического материала у носителей?
Вильярреал сказал, что придерживающиеся такого взгляда люди не понимают самой сути вирусов. Большинство вирусных генов не найдено ни у бактерий, ни у животных, ни у растений — да и ни в каком другом носителе. А это значит: вирусы способны сами по себе производить сложные гены. Большей частью их геномы — это коллекция разнородных частей, заимствованных у других вирусов. Океаны кишат подобными вирусами. По сути, прямо перед нашими глазами непрерывно происходит генетическое творение, причем в гигантских масштабах, — нечто вроде биологического «Большого взрыва».
Я спросил Луиса, что именно побудило его заподозрить возможную важность роли вирусов в эволюции их носителя.
— Я начал подозревать это, хотя довольно-таки смутно, еще в бытность мою студентом. Я тогда начал работать над персистентностью [34] Здесь: способность длительно сохранять свои свойства в окружающей среде. — Прим. ред.
вирусов.
Тридцатилетняя работа Вильярреала привела к убеждению: в тех случаях, когда персистентная стратегия доминировала в поведении вирусов, это радикально изменяло динамику взаимодействия вируса с носителем. Причем изменения были настолько сильными, что классическая модель взаимодействия хищник — жертва, известная как «модель Лотки-Вольтерра», оказывается неприменима. Мне идеи Вильярреала открыли новый взгляд на происхождение ретровирусов, составляющих столь значительную часть человеческого генома. Чтобы понять суть этих идей, нужно внимательно проанализировать, что значит дарвиновская концепция естественного отбора в применении к персистентным вирусам.
Читать дальше