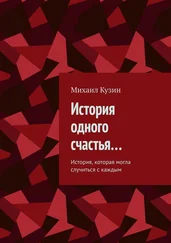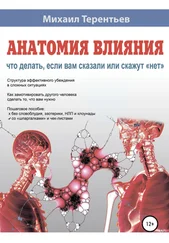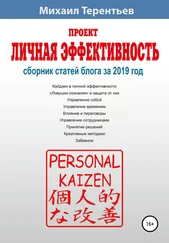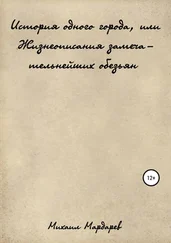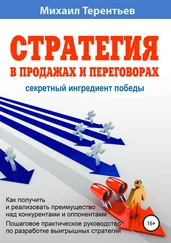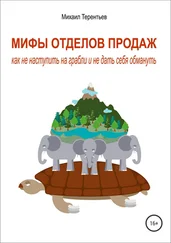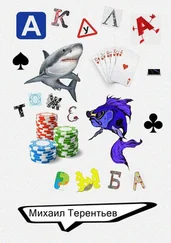Можно понять, почему Аристотель не смог сформулировать в физике точных законов. Он сознательно старается ограничить себя только узкой феноменологией, не допуская абстракций и умозрительных построений (избытком которых страдают, кстати, теории Платона и Демокрита). Конечно, это ему не всегда удается, поскольку сам характер проблем и уровень знаний о них сплошь и рядом вынуждают прибегать к умозрению — необходимому элементу творчества. Но важно, что это за умозрение. Аристотель воспринимает физику как науку типа медицины, или, скажем, зоологии, говоря, что «... точность, именно математическую точность, нужно требовать не во всех случаях, но лишь для предметов, у которых нет материи. Таким образом, этот способ (точное описание. — М.В.Т.) не подходит для науки о природе, ибо природа во всех, можно сказать, случаях связана с материей».
В его подходе к естественнонаучным проблемам присутствует заметный гуманитарный элемент, что тоже не всегда способствует получению новых точных результатов. Характерно в этой связи и другое его высказывание: «Нет ничего недостойного для свободного человека в том, чтобы заниматься некоторыми свободными науками до известного предела, но слишком усидчивое изучение их до полного совершенства... делает тело и разум человека негодным для потребностей и дел добродетели».
По Аристотелю, материя это что-то, из чего может быть сделано еще что-то, обладающее формой. Существуют недоступные наблюдению первичные элементы праматерии. Обычные тела состоят из четырех таких элементов: огня, воздуха, воды и земли. Но есть еще пятый, самый тонкий элемент — эфир. Поскольку праматерия не наблюдаема, то обсуждать ее устройство — занятие бесплодное. Однако, первичные элементы проявляют наблюдаемые качества. Например, земля имеет качества сухого и холодного, огонь — теплого и сухого и т. д. Материя несет также начала (качества) тяжести и легкости.
По Аристотелю, можно говорить об определенном положении тела только в том случае, если рядом находится какое-нибудь другое, объемлющее его тело. Поэтому: «Земля помещается в воде, вода в воздухе, воздух в эфире, эфир в небе, а небо уже ни в чем другом...»
Для Аристотеля центром мира является Земля. Все тела в зависимости от содержания в них начал тяжести и легкости стремятся к своему месту: либо к центру Земли, вниз, либо от центра, вверх. Это естественные движения, являющиеся внутренним свойством каждого тела. Но существуют еще насильственные движения, вызванные воздействием посторонних внешних причин. Такие воздействия осуществляются либо через какие-то промежуточные тела, либо непосредственно через контакт. Скорость тел, по Аристотелю, при насильственных перемещениях пропорциональна действующей силе.
Некоторые из приведенных утверждений кажутся странными, если воспринимать их как общие законы природы. Но на самом деле они совершенно правильны, если видеть в них прямолинейную констатацию наблюдаемых свойств отдельных веществ и некоторых типов движения тел в средах. То, что говорит Аристотель, является настоящей наукой «физикой», но в зачаточной, описательной стадии. Трудности начинаются дальше. Для того, чтобы приведенные высказывания не оставались простой инвентаризацией фактов, — а такое состояние дел ученого не может удовлетворить — необходимо внести для их интерпретации определенный умозрительный элемент. Таким образом, не существует принципиальной разницы в методологии Аристотеля, Платона и Демокрита, когда речь идет о выяснении причин явлений, все дело лишь в мере допустимой абстракции, какую каждый из них способен себе разрешить. К сожалению, нет простых и вечных критериев того, где кончается «наука» и начинается «ненаука». Но в каждую историческую эпоху имеются свои допустимые и понятные серьезному исследователю границы, за которыми умозрение превращается в патологию.
Пытаясь проанализировать сформулированные законы движения наблюдаемых тел, Аристотель, следуя логике научного исследования, стремится придать им широкий и универсальный характер. При этом он с неизбежностью приходит к выводу о невозможности пустоты в природе. Рассмотрим подробнее его аргументы.
Он не соглашается с высказываниями, что пустота необходима для того, чтобы дать место любому перемещению и увеличению. По Демокриту, как мы знаем, наполненное не может воспринять что-либо: если было бы такое возможно, то «было бы сколько угодно тел в одном месте, а также малое тело воспримет самое большое». Но Аристотель видит в примере вихревых движений сплошных тел иллюстрацию того, как тела могут прекрасно уступать друг другу место при отсутствии какого-либо протяжения между ними.
Читать дальше
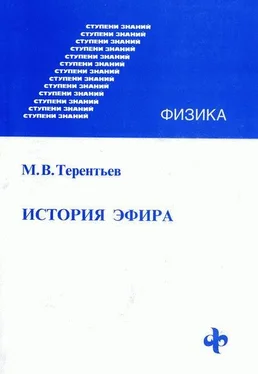
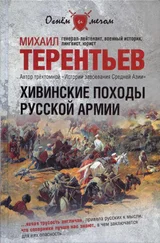
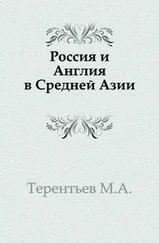
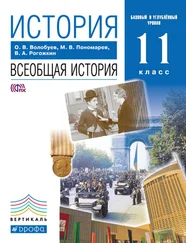
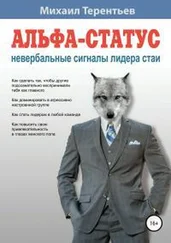
![Михаил Анисимов - История прекрасной дамы (в трёх частях) [litres самиздат]](/books/437567/mihail-anisimov-istoriya-prekrasnoj-damy-v-treh-cha-thumb.webp)