Ему показалось, что невидимая волна смывает остатки его личности.
Мэл-дун, мэл-дун, мэл-дун.
Развалины в прошлом, в настоящем, в будущем.
Он поглощал развалины, а они — его. Они вместе с ним уходили навсегда, ибо горизонт исчез.
Рассудок мог бы покрыть развалины, но рассудка больше не существовало.
Вскоре не осталось и развалин» (Майкл Муркок, «Развалины» [Муркок 1992b]).
Частое повторение имени — мэл-дун, в звучании второго слога которого слышны отголоски похоронного колокола, — обессмысливает его, не только как бы разъединяя личность героя, но и уничтожая ее.
В художественной реальности Новой волны мир предстает как функция от «я» героя и полностью повторяет возможные пути эволюции «я»: «ступеньки вверх» и «вниз». Мир может усложняться и углубляться, включая новые уровни реальности. В Новой волне популярным становится образ параллельных вселенных — «Отчет о вероятности Эй» Б. Олдисса [Олдисс 2000]), в романах Р. Желязны речь идет о возникновении божества — («Доннерджек», «Князь света» и др.). Но мир может и деградировать, распадаясь на отдельные вырождающиеся участки реальности, поддерживаемые сознанием одного человека. Так, в рассказе-притче «Одинокие песни Ларена Дора» Дж. Мартина главная героиня Шарра, воплощающая архетип странничества и связи миров «сквозь невидимые Врата, Обессиленная и окровавленная» врывается в изолированный, персональный «мир Ларена Дора» [Mapтин 1999]. Сходная ситуация представлена и в рассказе «Иззи и отец страха» Э. Финтушела [Финтушел 1998], только здесь отдельные островки реальности связаны не с сознанием конкретного человека, а являются следствием глобальной катастрофы. И, наконец, мир может просто умирать, «подражая» герою («Развалины» Муркока).
В текстах Новой волны при обостренном восприятии иллюзорности мира особую роль начинают играть некоторые слова, характеризующие ее концептуальную сферу: это и «бред» (уже звучавший в примерах), и «мираж» («Золотая ладья» Муркока [Муркок 1992а], в которой заглавный образ золотой ладьи, за которой стремится герой, является именно таким личным миражом), и даже «глюк» — если адекватно переводить многие рассказы и повести, посвященные наркотическому воздействию на сознание главного героя — то же «Время как спираль…» С. Дилени. Именно эти слова передают связь мира и героя: в художественной реальности Новой волны мир иллюзорен, но в значительной степени его иллюзорность зависит от восприятия субъекта. Как правило, герой от убежденности в объективном бытовании мира в итоге приходит к осознанию его иллюзорности.
Для Новой волны, «не доверяющей» чувствам героя, зачастую остается один объективный фактор — язык. Восприятие мира опосредовано именно им, именно в нем для героев Новой волны выражается сознание. Это породило интерес к языку как инструменту познания реальности, сделало возможным сюжеты, в которых изменение языка влекло за собой изменение сознания и мира («Вавилон-17» С. Дилени [Дилени 2002а]), а в конечном счете, актуализировало для литературы теории Сепира-Уорфа и Гумбольдта. Наше представление о мире обусловлено языком. Но если мир подвижен, не является константой, то язык становится чуть ли не единственной реальностью восприятия — этого ключевого понятия Новой волны.
Именно через язык субъекта читатель зачастую воспринимает сам мир произведений Новой волны. Так, заголовки многих ее произведений на первый взгляд абсолютно непонятны. Названия как бы порождены самим героем. Мы намеренно приводим в данном и нескольких последующих случаях оригинальные названия произведений, так как синтаксическая и смысловая усложненность их заголовков призвана подчеркнуть неоднозначность внутритекстового пространства, трудность разграничения истины и вымысла.
«Темнота и крик. Ее крик» [Дилени 2002b] Дилени, его же «Движение света в воде: секс и научная фантастика в Ист-Вилледж» («The motion of light in water: sex and science fiction in east village» [Delany 1988]), «У меня нет губ, а я должен кричать» («I have no mouth & I must scream») Харлана Эллисона [Ellison 1983], уже упоминавшаяся в русском переводе книга Б. Олдисса «Босоногий в голове: европейская фантазия» (русский перевод — «Босиком в голове») («Barefoot in the head: a European fantasia» [Aldiss 1969]), сборник рассказов Т. Старджона «Ужас мой велик, а с младенцем будет трое» («…And my fear is greet / Baby is three») [Sturgeon 1965] и т. д. Их смысл раскрывается через восприятие героем мира, когда фразы наподобие «Темнота и крик» становятся наполнены — сначала для героя, а потом и для читателя — страшным смыслом. Такого приема классическая литература, не испытывавшая проблем с миром и бредом, не знала: «Война и мир», «Домби и сын» не требуют «пояснений» героя.
Читать дальше
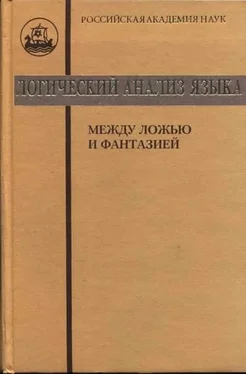
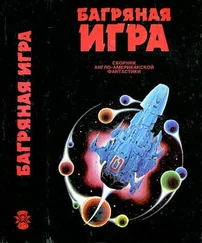
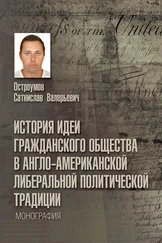
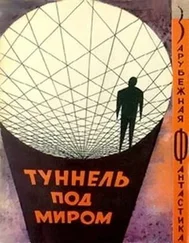

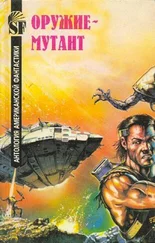
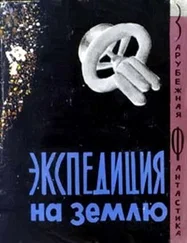
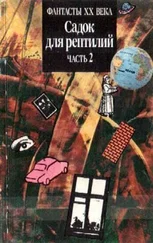
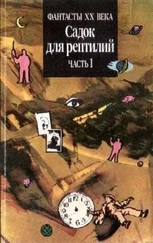

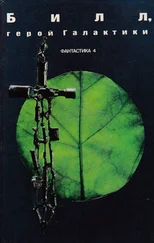
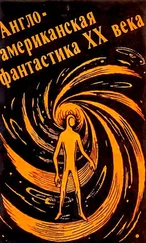
![Джером Биксби - Врата времени [Сборник англо-американской фантастики]](/books/419866/dzherom-biksbi-vrata-vremeni-sbornik-anglo-thumb.webp)