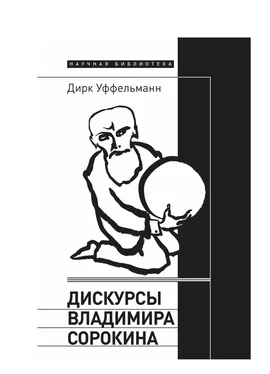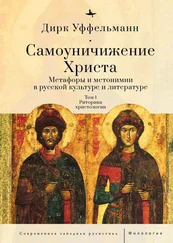Противостояние двух лагерей в «23 000» даже создает сюжетное напряжение: мы не знаем, удастся ли секте осуществить эсхатологический план уничтожения «мясного» мира. Когда 22 998 избранных умирают и в живых остаются только два человека, Ольга и Бьорн, на ум приходят легендарные массовые самоубийства сектантов, например членов «Храма народов» в Джонстауне в 1978 году. Внезапно именно за «мясными машинами», на протяжении 95 процентов всей трилогии упоминавшимися с презрением, остается последнее слово. Поэтому «23 000» — наименее герметичная, хотя далеко не «полифоническая»920 часть трилогии. В романе сектантский дискурс сталкивается с антисектантским, и их конфликт изнутри опровергает метафизические претензии братства. Это дает Марку Липовецкому основание рассматривать трилогию как «метапародию на философии социального, национального и религиозного избранничества»921, в то время как Алексей Павленко полагает, что дополнения, которыми Сорокин расширяет повествование, используются писателем как прием деконструкции: <...> Сорокин прибегает к классической тактике деконструкции, меняя местами дополнительные элементы нарративной структуры и то, что должно составлять ее центр: Ольга и Бьорн спасаются, так как допустили, что способны ошибаться922.
Общение и любовные взаимоотношения Бьорна и Ольги доказывают лживость предшествующих утверждений братства о бесчеловечности человечества923 и вносят в эзотерическую идеологию противоречащую ей точку зрения. В схожем ключе размышляет о «Ледяной трилогии» Биргит Менцель:
Что касается оккультных мотивов и их функции в этих романах, мне романы Сорокина представляются пародией на постсоветские политические оккультные идеологии и вместе с тем гностической притчей, изложенной общедоступным языком924.
Исследователи выявили в трилогии множество скрытых отсылок к герметической, эзотерической и мистической литературе, включая каббалу925, индийскую философию926, исихазм Григория Паламы927, ницшеанскую концепцию сверхчеловека с ее замаскированным расизмом928, апокалиптические видения позднего Владимира Соловьева929, оккультистекую группировку НКВД во главе с Глебом Бокием930, философию сердца Ивана Ильина931, «Розу мира» Даниила Андреева932, теорию этногенеза Льва Гумилева933 и учение о мировом льде (Welteislehre) Ганса Хёрбигера, с которой в данном случае прослеживается прямая параллель и которая повлияла на немецких национал-социалистов934. По словам Дмитрия Новохатского, все эти влияния у Сорокина сливаются в «„авторский" <...> синтез мифологических традиций»935. Подобная вторичность и синкретизм показывают, что даже в более поздних произведениях Сорокин <.. .> продолжает прибегать к характерной для него стратегии субверсивной аффирмации, ритуализованному изображению господствующей идеологии, воспроизводимой посредством подражания, как, например, соцреализм в его соц-артовской прозе или популярный метафизический дискурс оккультизма в его нынешних текстах936.
В России первые критики, писавшие о «Льде» и «Пути Бро», по-разному отвечали на вопрос, что считать главным в трилогии. Тематическую новизну и метафизические устремления93 7 (просектантская трактовка)? Или развенчание высокомерия и бесчеловечности фанатичного братства938 (антисектантская трактовка939)?
Диаметрально противоположные интерпретации романа напоминают прежнюю дихотомию буквального («отвратительно») и металитературного прочтения текстов Сорокина. Любопытно здесь участие в дискуссии самого автора. Уже в марте 2002 года в интервью, которое писатель дал как раз перед публикацией «Льда» и которое было озаглавлено «Прощай, концептуализм», сам Сорокин словно бы недвусмысленно высказался в поддержку метафизического и этического толкования: «Я попрощался с концептуализмом. Мне хотелось двигаться в сторону нового содержания, а не формы текста»940. Не принимая это заявление на веру, Ольга Богданова утверждает, что Сорокин в этой реплике слукавил в ответ на аналогичные заявления других критиков. К последним можно отнести Михаила Эпштейна и Дмитрия Кузьмина, увидевших в современной русской поэзии исполненный нежной ностальгии, возвращающийся к индивидуальному началу «постконцептуализм»941. Это одна из причин, по которым не стоит «слепо доверять» интервью Сорокина942. Другие исследователи соглашаются, что Сорокин играет с «новой искренностью» в духе «концептуальной исповедальности», притворного маньеристского жеста943. Если принять этот тезис, Сорокин обновляет уже хорошо знакомую «концептуалистскую мифопоэтику»944 московского концептуализма и «Медицинской герменевтики» в русле постмодернистского перформанса945.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу