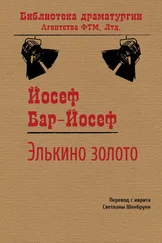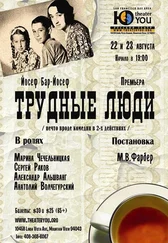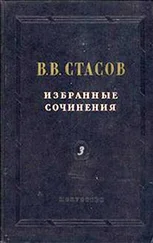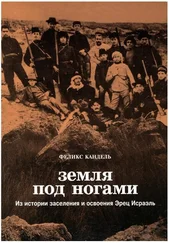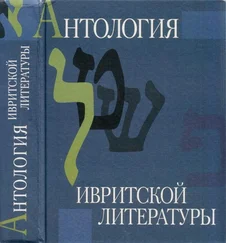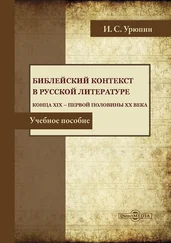Меня особенно интересует душа индивидуума, душа современной личности. […] Проникнуть в глубину души такой новой личности […] удалось только двум-трем из гениев нашего поколения — Уайльду, Андрееву и Пшибышевскому — тем самым великим писателям, подвергающимся нападкам марксистов за дегенератизм, излишнее декадентство и эксцентричные галлюцинации, которые якобы встречаются в их творчестве. [42] Зан, Разбитая жизнь , 12.
В этот же период жили и творили в Европе Иешая Бершадский, Мордехай Зеев Файерберг, Йосеф Хаим Бренер, Хирш Довид Номберг, Ури Нисан Гнесин, Гершон Шофман, Двора Барон, Давид Шимонович и Яков Штейнберг. Какова была сущность контактов между ивритской литературой Возрождения и декадентством, проникшим в Россию из литератур Запада? Ограничивались ли эти контакты тем, что ивритские писатели, приверженные устаревшим течениям девятнадцатого века, отвергали современную европейскую литературу? Или становление ивритской литературы Возрождения определено и пронизано тем же духом пугающего и манящего модернизма?
Духовный климат ивритской литературы конца девятнадцатого века
Заметки, интервью и научные статьи, опубликованные в ивритских газетах и журналах в течение последнего десятилетия девятнадцатого века, свидетельствуют о том, что европейская декадентская мысль (больше, чем сама декадентская литература) была известна образованному еврею и что она влияла не только на понятия и ценности, но даже на настроения. Первый признак этого — мода на пессимизм. Статья под названием «Еврейское отчаяние последних дней» (1892) показывает, что пессимизм превратился в моду среди еврейской образованной молодежи уже в самом начале 90-х годов. Пессимизм и уныние — это «два демона», с которыми пытается бороться ивритская литература, — так утверждал Ерахмиел Шкапнюк, видевший источник этого явления во влияниях современной европейской литературы, особенно во влиянии Шопенгауэра, объяснению «Теории отчаяния» которого автор статьи уделил непропорционально большое место. [43] Шкапнюк, Еврейское отчаяние , 41, 47–49.
В середине десятилетия «отчаяние и моральное разрушение» были представлены как настроения, увлекающие даже тех, кто не был пессимистом по природе. [44] Винц, Примеры , 57: 1.
Человек этой эпохи описывался пораженным «чувством опустошения и разрушения, опьянения и ослепления». «Страшное отчаяние поразило его и даже искры надежды у него не осталось», — все это под влиянием «чудовища нашего времени, идола поколения», под которым имелись в виду «материализм и порожденный им пессимизм» [45] Рабинович, Вечный Израиль , 2.
. В сноске к той же статье так объяснялось понятие «пессимизм»: «Я имею в виду известную систему Шопенгауэра и Гартмана» [46] Там же.
. Для подтверждения своих слов автор опирался на книгу И. Э. Каро «Пессимизм в 19 веке» [47] Caro, Le pessimisme au xix siécle .
. Популярность, которой пользовалась меланхолия, заметна и в некоторых названиях, например, фельетон «Что напишу — фельетон меланхолика» [48] Товиов, Фельетон меланхолика .
или заметка «Без излишней меланхолии». [49] Усышкин, Без излишней меланхолии .
«Отчаяние от ума» [50] Элатин, Отчаяние от ума .
— так назвал эту моду один из пишущих.
Уже в начале 90-х Шопенгауэр и Гартман упоминаются на одном дыхании, как авторы системы, «в которой слышится дух отчаяния и тьмы», [51] Шолом-Алейхем, Самоубийца .
и как «философы отрицания нашего поколения». [52] Ха-Адраи, Лев Толстой и его взгляды , 35.
В середине 90-х годов Шопенгауэр так популярен (даже больше, чем Ницше), что можно было написать: «Кто не слышал имя Шопенгауэра […], давшего своим ученикам теорию смерти, в которой можно жить» [53] Без подписи, Терновый путь , 2.
. Магией, которой было окутано имя Шопенгауэра в глазах молодых еврейских интеллектуалов, пронизаны длинная статья, опубликованная в журнале Ха-мелиц под заголовком «Теория жизни по Шопенгауэру» [54] Финкель, Теория жизни по Шопенгауэру .
, и очерк Хилела Цейтлина «Добро и зло в понимании еврейских мудрецов и мудрецов других народов» [55] Цейтлин, Добро и зло .
, представляющий собой хвалебный гимн пессимизму в истории мировой и еврейской мысли.
В тот же период Цейтлин принес весть о «святом пессимизме» Шопенгауэра и Ницше компании своих молодых приятелей в Гомеле, среди которых были Бренер и Гнесин. В автобиографическом рассказе «Бе-терем» (Прежде) Гнесин описывает стоявший в доме отца главного героя — Уриэля — книжный шкаф, в котором рядом с религиозными книгами стоял сборник коротких эссе Шопенгауэра Parerga und Paralipomena. [56] Гнесин, Полное собрание сочинений , 1: 261.
Сам Гнесин, для которого Шопенгауэр был самым близким философом, постоянно носил во внутреннем кармане своего пиджака это популярное сочинение [57] Там же: 625.
.
Читать дальше