Чтоб плыть тебе наук в пространный океан.
Какой среди его увидишь дом создан!
Какую в нем найдешь веселость и забавы,
Что могут средством быть почтения и славы!
Такие там себе богатства соберешь,
Что и чрез целый век твой их не проживешь.
Хотя бы превзошел ты тем Мафусаила,
Доброта та ж богатств и та же будет сила;
Не может у тебя похитить хитрый тать,
Не может ни вода, ни огнь, ни меч отнять.
О коль вы счастливы, блаженны, треблашенны,
Что драгоценным сим сокровищем снабденны!
Лобзаю с ревностью остатки ваших дел!
О естьли б мало вам подобия имел,
Подумал бы, что я сравню верьх гор с долиной
И что все учиню рукой моей единой,
Что ветры заключу, как Эоль, в темный ров,
Нептуну наложу казнь тягостных оков. :
Почти приятель их труды своим читаньем И истинну внемли с глубоким прилежаньем.
Подобно как пчела сбирает мед с цветов,
Так сладость мудрости сбери из их трудов И облегчись принять приятнейшее бремя.
То требует твой род, то требует и время;
В такие мы живем златые времена,
Где не тревожит нас кровавая война,
Не слышим громких труб, к сражению зовущих.
Не зрим летящих бомб, сердца и ум мятущих,
Не устрашает нас оружный ярый треск, :
Ниже сверкающих мечей грозящий блеск;
Везде знак радости и сладкого покою,
О коль блаженны мы Владычицей такою,
Что управляет толь премудро свой народ,
Где ни малейших нет мятежей и погод.
ГЦастливых царств пример есть наше государство.
Она примером глав, помазанных на царство.
Россия! Похвались монархиней своей,
Что Елисейских ты блаженнее полей.
Настойчивое прославление «блаженства наших дней», «покоя и любезного мира», призывы «плыть наук в пространный океан», напоминания о том, что приобретенных знаний «не может ... похитить хитрый тать, Не может ни вода, ни огнь, ни меч отнять», программная заключительная часть стихотворения, ставящая своего целью упрочить миролюбивую политику Елизаветы Петровны, — все это наводит на мысль о том, что обращение аноним-, иого автора к какому-то неизвестному нам пока адресату является лишь формой пропаганды определенного круга идей, связанного обычно в нашем представлении с общественной и философской позицией Ломоносова. Сразу же бросается в глаза явственная сюжетная и идеологическая близость «Письма к г. В...» к оде 1747 г. («Царей и царств земных отрада») и другим недалеко от нее отстоящим по времени произведениям великого русского поэта. Однако это не простое ученическое или эпигонское повторение уже раньше и лучше сказанного, а новое, красноречивое, убедительное развитие идей, важных и крайне актуальных накануне Семилетней войны (1756—1763).
Следует вспомнить, что как раз в то время, когда писалось и печаталось «Письмо к г. В...», т. е. в конце 1755—начале 1756 г., европейское, и в том числе и русское, общественное мнение было сильно встревожено дипломатическими шагами, предпринятыми крупнейшими европейскими правительствами для подготовки назревавшей войны. Пруссия, давно уже не имевшая дипломатических отношений с Россией, разорвала свой союз с Францией и 16 января 1756 г. заключила союз со своим прежним врагом, Англией. Это заставило колебавшуюся до того Францию Припять предложение Австрии об оборонительном союзе, к которому в самом конце 1756 г. примкнула и Россия. 1
Хотя все эти события произошли уже после появления в «Ежемесячных сочинениях» «Письма кг. В.. .», однако и в 1755 г. были у передовых русских людей сильные опасения того, что может прерваться мирный период, наступивший в стране после заключения Абоского мира сб Швецией (1743) и едва не нарушенный предполагавшимся вступлением России в войну за Австрийское наследство. Как известно, ломоносовская ода 1747 г. была поэтическим документом, отражавшим антивоенную позицию патриотически настроенного передового русского общества как раз в самый ответственный момент войны за Австрийское наследство.
Совершенно аналогичную роль, по-видимому, должно было играть и «Письмо к г. В...».
Вопрос об авторе произведения, столь важного по своему политическому характеру и общественному назначению и столь непохожего на другие стихи в академическом журнале, не может быть безразличен для истории русской литературы.
Однако идеологическое и тематическое сходство данного «Письма» с одой 1747 г. недостаточно, чтобы признать анонимное стихотворение произведением Ломоносова. Ведь и какой-нибудь ученик его — Н. Поповский, И. Барков, А. Дубровский — или какое-либо неизвестное нам лицо, подражая одам и надписям Ломоносова, могло написать интересующее нас «Письмо».
Читать дальше
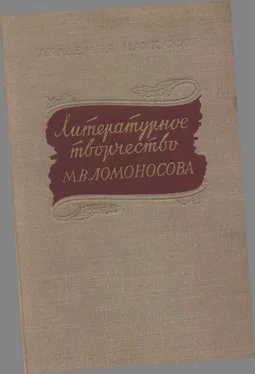
![Павел Щеголев - Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы]](/books/27714/pavel-chegolev-duel-i-smert-pushkina-issledovanie-thumb.webp)


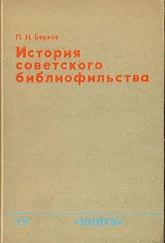
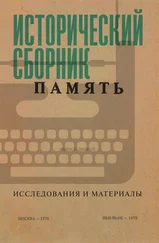


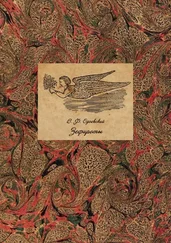
![Ричард Локк - О жителях Луны и других достопримечательных открытиях [Фантастическая литература - Исследования и материалы. Том IV]](/books/404770/richard-lokk-o-zhitelyah-luny-i-drugih-dostoprimechate-thumb.webp)
![Ганс Эверс - Эдгар Аллан По [Фантастическая литература - исследования и материалы, т. III]](/books/411217/gans-evers-edgar-allan-po-fantasticheskaya-literatu-thumb.webp)

