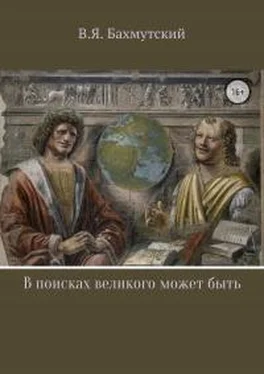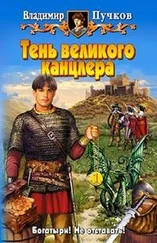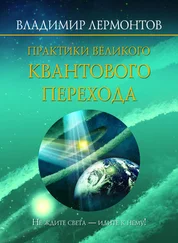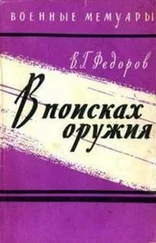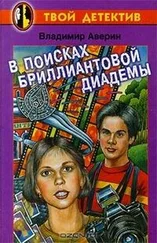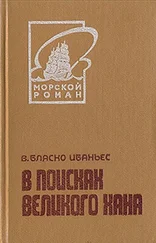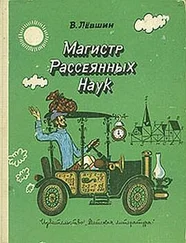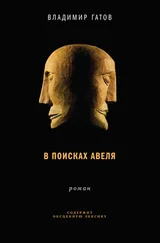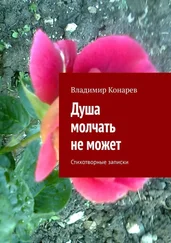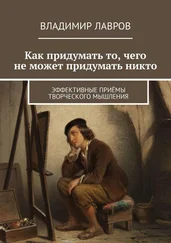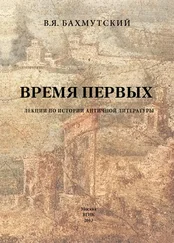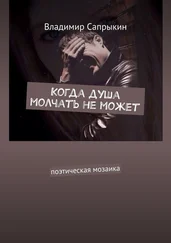Но, хочу подчеркнуть, это не надо понимать буквально – это не Золя, не Франция. Это Пингвиния – абсурдный, перевёрнутый мир. Франс показывает изнанку, обратную сторону исторической реальности. Почему он изображает Золя? Потому что Золя верил, что осуждённого оправдают, и восторжествует справедливость. А Франс знает другое: в его романе Пиро оправдали, но к справедливости это не привело. И эта наивность, историческая близорукость Золя и стали предметом иронии Франса.
И, наконец, последнее, что хотелось бы отметить. В романе представлены также события будущего. Хотя Франс писал в самом начале XX века, он предвидел Первую мировую войну. Война в романе тоже возникает на основе чистого абсурда. Она связана с тем, что премьер-министр Визир завёл роман с женой министра Цереса, и этот частный конфликт мужчин-соперников явился причиной развязывания глобальной кровавой войны. Будущие времена пингвинской цивилизации – это полный упадок цивилизации и культуры. В конце концов, в стране появляется группа экстремистов, в руках которых оказывается что-то вроде атомной бомбы. Они её взрывают, а дальше всё повторяется сначала…
Франс считал, что таково самое вероятное развитие событий. Это история Пингвинии, начавшаяся с абсурдного недоразумения, и завершиться она могла только абсурдом. А что касается Франции, писатель чувствовал эту абсурдность в самой реальной истории. Его книга – предостережение. Это не значит, что именно так всё и случится в действительности, он так не думал. Но подобный финал возможен. Также не надо искать и конкретных портретов в романе Франса. Его «Остров пингвинов» – это карикатура, фарсовые фигуры. Это абсурдная сторона исторической реальности.
Герман Гессеродился в 1877 в Германии, умер в 1962 году в Швейцарии. Вообще, это писатель, который во многом близок к Томасу Манну. В период, когда Томас Манн жил в Швейцарии, они очень дружили и между их произведениями – «Игрой в бисер» и «Доктором Фаустусом» – тоже много общего. Для понимания творчества Германа Гессе надо иметь в виду следующее. У него есть одно важное высказывание, мысль, которая, впрочем, пронизывает и его произведения. В романе «Нарцисс и Гольдмунд» (1930) писатель выразил это, может быть, в наиболее прямой форме, но, в общем, та же мысль присутствует и в «Игре в бисер». Гессе считал, что человек, как и всё в нашем мире, существует биполярно: во взаимодействии и взаимозависимости полюсов. Но нельзя одновременно сделать вдох и выдох, совместить бытие мужчины и бытие женщины, свободу и порядок, разум и чувства, инстинкт и дух. За одно всегда приходится платить потерей другого, – такова действительность человеческого существования. Надо вдохнуть, чтобы выдохнуть, а одновременно это сделать невозможно. Такова в самых общих чертах жизненная философия, из которой исходил Г. Гессе, и которая по-разному проявляется в его романах.
Вообще, надо сказать, сам писатель одно время страдал душевным расстройством, даже проходил лечение у крупнейшего исследователя человеческой психики Карла Юнга. Юнг оказал огромное влияние на мировоззрение писателя, но он, в отличие от Гессе, считал, что в нашем сознании всегда присутствуют оба начала, мужское и женское, в мужчине отчасти проявляется женский аспект и наоборот. В человеке сосуществуют сознательное и бессознательное, осмыслить которое до конца не дано, и потому в психологическом плане всё время необходимо дополнять одно другим: вдох дополнять выдохом.
«Игра в бисер»(1943) – последнее и наиболее значительное творение Гессе. Этот роман состоит из трёх частей, и такая трёхчастная форма – важная его черта. Первая часть – это введение, затем следует центральная часть книги – описание жизни главного героя Йозефа Кнехта, одного из мальчиков, попавших в Касталию, который сумел пройти сложный путь от ученика до магистра игры, и далее третья часть – это сочинения Кнехта, которые тоже в свою очередь делятся на три жизнеописания и ряд стихов, написанных им.
В первой части изображается XX век, который Гессе именует фельетонной эпохой. Это период полного обесценивания и упадка культуры:
«…Нам представляется, что к сфере фельетонизма следует причислить и некоторые игры, к которым приглашались и без того перенасыщенные познавательным материалом читатели, о чём свидетельствует пространный экскурс Цигенхальса об удивительном феномене – "кроссвордах". Многие тысячи тяжело трудившихся и нелегко живших в ту пору людей в часы досуга, оказывается, сидели, склонившись над квадратами и крестами, и заполняли их, соответственно правилам игры, определенными буквами. Поостережёмся, однако, смотреть на это как на смехотворную и сумасбродную затею, воздержимся и от насмешек. Людей, игравших в эти детские игры-загадки, читавших эти фельетоны, ни в коем случае нельзя назвать наивными детьми или охочими до всяких забав феакийцами, отнюдь нет. Они жили в вечном страхе среди политических, экономических и моральных потрясений, вокруг них всё кипело, они вынесли несколько чудовищных войн, в том числе и гражданских, и игры их никоим образом не были весёлым, бессмысленным ребячеством, но отвечали глубокой потребности: закрыть глаза, убежать от нерешённых проблем и ужасающих предчувствий гибели в возможно более безобидный мир видимости. Они прилежно учились управлять автомобилем, играть в замысловатые карточные игры и мечтательно отдавались разгадке кроссвордов, ибо перед лицом смерти, страха, боли, голода они были почти вовсе беспомощны, церковь не дарила им утешение и дух – советов. Люди, читавшие столько фельетонов, слушавшие столько докладов, не изыскивали времени и сил для того, чтобы преодолеть страх, побороть боязнь смерти, они жили судорожно, они не верили в будущее.
Читать дальше