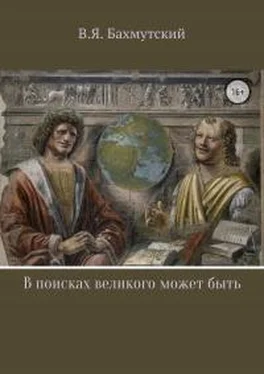С этим связаны две важнейшие темы романа. С одной стороны – это судьба художника, а с другой – судьба Германии. И поэтому это книга о немецком композиторе, но, в то же время, композитор – это как бы выражение немецкого вообще. Роман представляет собой биографию Адриана Леверкюна, с которым рассказчик был знаком с раннего детства. И первое, что он отмечает в своём герое, – это душевный холод. Даже мальчиком тот был чрезвычайно холоден. Сам Адриан Леверкюн скажет о себе: «Похоже… я скверный малый, ибо нет во мне горячности». Он редко с кем переходил на "ты", даже к своему ближайшему другу Цейтблому всегда обращался по фамилии. Единственный человек, с которым он был на «ты» и называл по имени, это скрипач Руди, Рудольф Швердтфегер. Но ему это дорого обошлось.
Адриан Леверкюн с детства был точно обречён надо всем смеяться. В школе он был первым, но плохим учеником. Человек необыкновенно одарённый, он учился легко и блистательно, но был плохим учеником, потому что никогда не отдавал себя учению. Всё вызывало в нём усмешку. Ни к чему он не мог отнестись до конца серьёзно, без иронии. И не случайно вначале он поступает на богословский факультет, надеясь, что богословие сможет как-то обуздать это его качество. Тут уж не до иронии. Однако очень скоро он с сожалением обнаруживает, что и современное богословие превратилось в пародию.
Впрочем, была и другая причина, по которой он выбрал, а затем оставил богословский факультет. У него, несомненно, было призвание – быть музыкантом. Но музыкой он начал заниматься поздно, и поэтому не мог стать исполнителем. Хотя была и ещё одна, более глубокая причина, почему это ему не удалось. Исполнительская карьера требует общения с публикой. А ему всегда было безразлично, как будет воспринята людьми его игра… Он вообще не был способен общаться. Поэтому ему оставалось только одно – композиторство.
В своё время большое впечатление на Адриана Леверкюна произвели лекции профессора Венделя Кречмара, посвященные теории и истории музыки. Он написал Кречмару письмо, в котором выразил своё желание обратиться к музыке и опасение, что у него, может быть, нет для этого достаточных оснований: «…ведь и у меня, как у всех, слёзы навертываются на глаза, а позыв к смеху всё-таки непреодолим. Спокон веку я проклят смеяться перед лицом всего таинственно-впечатляющего; от этого-то чрезмерно развитого чувства комического я и удрал в теологию, понадеялся, что она уймёт мой злополучный зуд, – но лишь затем, чтобы и в ней обнаружить пропасть ужасающего комизма. Почему почти все явления представляются мне пародией на самих себя? Почему мне чудится, будто почти все, нет – все средства и условности искусства ныне пригодны только для пародии? <���…> И такого-то отчаявшегося человека, такую ледяную статую вы объявляете «одарённым» музыкантом, призываете меня к музыке?» (XV). (465)
В музыке, по его выражению, слишком много тепла, "коровьего, хлевного тепла". Но Адриан Леверкюн холоден. Как он может быть композитором? Слушая музыкальное произведение, он чувствует, как оно сделано, и ему хочется разъять эту форму на составляющие. Но он достаточно глубок для того, чтобы понимать, что искусство к этому не сводится. В искусстве скрыта какая-то тайна, а он, видимо, лишён этого ощущения. Все эти сомнения он выразил в письме своему учителю. А Кречмар ему на это ответил: то, о чём говорит Адриан, это особенности современного композитора вообще. Именно такие люди и нужны сейчас искусству.
Однажды в разговоре с Цейтбломом, своим другом и биографом, Адриан Леверкюн так определил трудности, которые испытывает как художник. Это очень важный момент для понимания романа. Сначала я прочту то, что говорит герой, а потом постараюсь прокомментировать его слова: «В произведении искусства много иллюзорного; можно даже пойти ещё дальше и сказать, что оно само по себе как «произведение» иллюзорно. Оно из честолюбия притворяется, что его не сделали, что оно возникло и выскочило, как Афина Паллада, во всеоружии своего блестящего убранства, из головы Юпитера. Но это обман. Никакие произведения так не появлялись. Нужна работа, искусная работа во имя иллюзии; и тут встаёт вопрос, дозволена ли на нынешней ступени нашего сознания, нашей науки, нашего понимания правды такая игра, способен ли ещё на неё человеческий ум, принимает ли он её ещё всерьёз, существует ли ещё какая-либо правомерная связь между произведением как таковым, то есть самодовлеющим и гармоническим целым, с одной стороны, и зыбкостью, проблематичностью, дисгармонией нашего общественного состояния – с другой, не является ли ныне всякая иллюзия, даже прекраснейшая, и особенно прекраснейшая, – ложью? <���…> «Произведение искусства! Это обман. Обывателю хочется верить, что оно ещё существует. Но это противно правде, это несерьёзно». (XXI).
Читать дальше