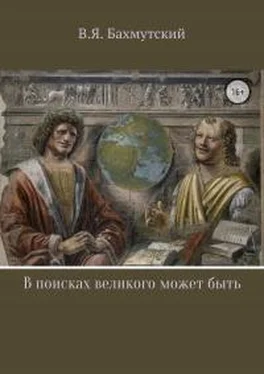Есть ещё одна особенность, которая вообще не свойственна человеку Запада, но присуща людям в России. Это очень ярко отразилось в русской литературе. Люди легко исповедуются друг другу. Скажем, в романе Достоевского Мармеладов, впервые увидев Раскольникова, не колеблясь, всё ему о себе рассказывает. Или герой «Крейцеровой сонаты» Толстого едет в поезде и выкладывает рядом сидящему незнакомцу глубоко интимные подробности своей супружеской жизни. Для западного человека подобное невозможно.
В одном из эпизодов новеллы Тонио Крёгер, ставший к тому времени известным писателем, попадает в мастерскую русской художницы Лизаветы Ивановны, и там происходит его исповедь.
Царящая в мастерской русской художницы особая непринужденная атмосфера располагает к откровенности, и Тонио Крёгер открывает ей свою душу. В этой исповеди выступает, может быть, главная проблема его как художника. Он всё же стал писателем, как мечталось в детстве, но чувствует, что положение писателя его не вполне устраивает, не даёт ему счастья. Дело в том, что как писатель он выпадает из обыденного течения жизни. Это происходит по разным причинам. С одной стороны, его идеал – это бюргерство, которое представлено в новелле образами Ганса Гансена и Инге Хольм. Но в то же время сам Тонио стремится погрузиться в какие-то иррациональные глубины. Он говорит, что знал одного фабриканта, который писал стихи. Но прежде тот сидел в тюрьме. Можно себе представить! Преуспевающий фабрикант вряд ли станет писать стихи. Художник должен всегда оставаться в жизни наблюдателем: он как бы смотрит на всё со стороны, не участвует в происходящем. Любое его переживание становится материалом для творчества. Поэтому занятие искусством – это, в общем-то, скорее проклятие, чем призвание. Но, может быть, самая глубокая причина разачарования Тонио Крёгера в том, что он хотел бы писать для голубоглазых и белокурых, хотел бы, чтобы ему рукоплескали Ганс Гансен и Ингеборг Хольм, а они никакой потребности в его творчестве не испытывают. И характерный для той эпохи лозунг "искусство для искусства", на самом деле, в глазах Томаса Манна и его героя означает лишь «искусство для людей искусства». Это художество для художников. Единственные почитатели, которые интересуются произведениями Тонио Крёгера, – это его собратья по перу. Они способны оценить литературную форму, стиль. Но, собственно, это единственная аудитория, которой он как автор располагает. Бюргерам его творения не интересны.
Елизавета Ивановна не вполне с этим согласна. Она немного иначе смотрит на призвание писателя. «Я только глупая женщина, пишущая картины, и если у меня находится, что возразить вам, если мне иногда удаётся защитить от вас ваше собственное призвание, то, конечно, не потому, что я высказываю какие-то новые мысли, – нет, я лишь напоминаю вам то, что вы и сами отлично знаете… По-вашему, выходит, что целительное, освящающее воздействие литературы, преодоление страстей посредством познания и слова, литература как путь к всепониманию, к всепрощению и любви, что спасительная власть языка, дух писателя как высшее проявление человеческого духа вообще, литератор как совершенный человек, как святой – только фикция, что так смотреть на вещи – значит смотреть на них недостаточно пристально?
– Вы вправе всё это говорить, Лизавета Ивановна, применительно к творениям ваших писателей, ибо достойная преклонения русская литература и есть та самая святая литература».
Это важное различие между востоком и западом. Русская литература, может быть, до конца XX века, действительно, выполняла подобную роль. В России литература как бы заменяла собой общественно-политическую жизнь. А. Блок когда-то справедливо заметил: "Вопрос, что важнее – Аполлон Бельведерский или печной горшок – это чисто русский вопрос". Русскую литературу всегда волновала нравственная сторона жизни. Но герой новеллы Томаса Манна – не русский писатель. Он немецкий писатель. И проблемы, которые его волнуют, в Германии мало кому интересны. Тонио говорит Лизавете Ивановне: «Я люблю жизнь, это признание. Примите, сберегите его, – никому до вас я ничего подобного не говорил. Про меня немало судачили, даже в газетах писали, что я то ли ненавижу жизнь, то ли боюсь и презираю её, то ли с отвращением от неё отворачиваюсь. Я с удовольствием это выслушивал, мне это льстило, но правдивее от этого такие домыслы не становились. Я люблю жизнь… Вы усмехаетесь, Лизавета, и я знаю почему. Но, заклинаю вас, не считайте того, что я сейчас скажу, за литературу! Не напоминайте мне о Цезаре Борджиа или а какой-нибудь хмельной философии, поднимающей его на щит! Что он мне, этот Цезарь Борджиа, я о нём и думать не хочу и никогда не пойму, как можно возводить в идеал нечто исключительное, демоническое. Нет, нам, необычным людям, жизнь представляется не необычностью, не призраком кровавого величия и дикой красоты, а известной противоположностью искусству и духу: нормальное, добропорядочное, милое – жизнь во всей её соблазнительной банальности – вот царство, по которому мы тоскуем. Поверьте, дорогая, тот не художник, кто только и мечтает, только и жаждет рафинированного, эксцентрического, демонического, кто не знает тоски по наивному, простодушному, живому, по малой толике дружбы, преданности, доверчивости, по человеческому счастью, тайной и жгучей тоски, Лизавета, по блаженству обыденности!»
Читать дальше