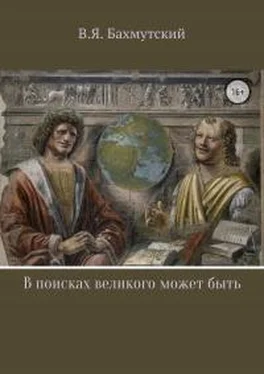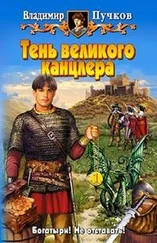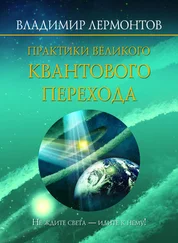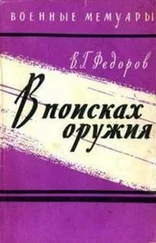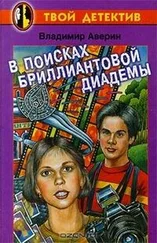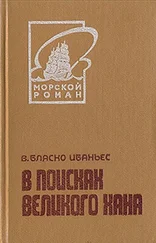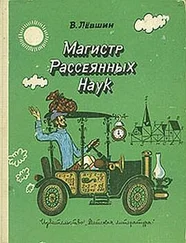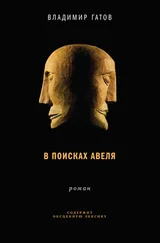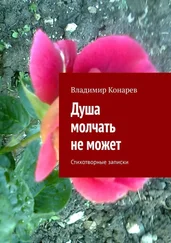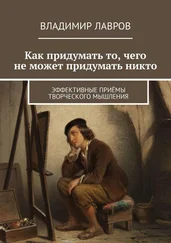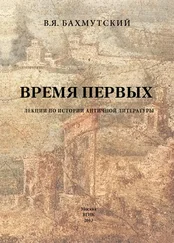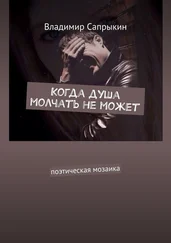– Значит, есть бог на небе! А, боров, вот и покончено с тобой!
Они окружили ещё теплый труп, со смехом глумились над ним, обзывая грязным рылом размозженную голову покойника; несчастные, лишённые хлеба насущного люди изрыгали в лицо мертвеца свою застарелую злобу.
– Я должна тебе шестьдесят франков, на, получай, вор! – в бешенстве крикнула Маэ. – Теперь ты больше не откажешь мне в кредите… Погоди-ка! Погоди! Надо тебя ещё откормить! Она обеими руками стала рыть землю и неистово запихивала ему в рот целые пригоршни.
– На, жри, жри!.. Ел нас поедом, а теперь жри сам!
Брань повисла в воздухе, а покойник, лежавший неподвижно на спине, уставился огромными глазами в небо, с которого спускалась ночь. Земля, которую Маэ втиснула ему в рот, была тем хлебом, в каком он ей отказал. И отныне он будет питаться только этим хлебом. Не принесло ему счастья, что он морил голодом бедняков.
Но женщинам нужно было мстить ещё и ещё. Они кружили вокруг трупа, подобно волчицам. Каждая стремилась надругаться над ним, облегчить душу какой-нибудь дикой выходкой.
Раздался пронзительный голос Прожженной:
– Надо его выхолостить, как кота!
– Да, да! Как кота!.. Как кота!.. Слишком много гадостей творила эта сволочь!» ». (Часть пятая. Глава V).
Я думаю, сцену не надо комментировать. Эйзенштейн был прав, по форме это, действительно, готовый монтажный лист. Смена планов как в образцовом сценарии. Золя показывает стачку двойственно. На первый взгляд это страшная, озверевшая толпа, готовая всё на своем пути разрушить. Но в то же время Золя понимает, что люди доведены до такого состояния самими нечеловеческими условиями своего существования. Это скорее предостережение писателя: если европейский капитализм не предпримет каких-либо шагов, чтобы изменить бедственное положение рабочих – вот чем это грозит обернуться: неизбежным крахом всей европейской цивилизации.
Стачка, в конце концов, была подавлена, рабочих вынудили вернуться в шахты. Но злоба осталась жить…
В романе представлены три лидера этого движения. Один из них – это главный герой романа Этьен Лантье, последователь идей Маркса и Первого Интернационала. Второй – социалист Роснер, склонный скорее к умеренным соглашениям, и третий – это русский анархист Суворин. Золя был достаточно близок с Тургеневым, который в то время жил в Париже, и об анархистах знал по рассказам русского писателя. Этьен решает вернуться в шахту, но Суворин не хочет допустить примирения. Он – анархист, и то, что рабочие готовы покориться, кажется ему недопустимым. Он устраивает в шахте обвал. Среди погибших оказалась Катарина, которую Этьен любил. Сам Этьен выжил чудом. Он поднимается на поверхность из шахты. Этим завершается роман. И в общем, Золя изображает здесь поражение, никто ничего не сумел добиться. Старуха Маэ, которая играет важную роль в этом произведении, потеряла мужа, сына, дочь и теперь вынуждена сама идти работать в шахту. Она провожает Этьена, покидающего поселок. «Этьен с глубоким волнением смотрел ей вслед: какая она усталая, забитая, лицо бледное, из-под синего чепчика выбиваются выцветшие волосы, – плодовитая самка, дородное тело которой безобразили холщовые штаны и блуза. В её последнем рукопожатии он почувствовал рукопожатие товарища – крепкое, долгое и безмолвное, Этьен всё понял; в глазах её светилась спокойная уверенность. До скорого свидания! Но тогда уже это будет решительный бой». (Перевод: Н. И. Немчинова).
Роман не случайно называется «Жерминаль». По календарю французской революции это название апреля, месяца весенних всходов. Так что название книги тоже глубоко символично. Хотя стачка практически ничего не изменила в жизни рабочих, но всё-таки она была необходима, считает Золя. Благодаря стачке произошёл важный перелом в их сознании, люди показали, что они не смирились и никогда не смирятся с несправедливостью. И это, по мнению писателя, таит в себе надежду на перемены.
Кроме цикла «Ругон-Маккары», Золя создал ещё ряд циклов: «Три города», «Четыре Евангелия». Однако финалом его биографии стало участие на стороне защиты в знаменитом деле Дрейфуса, громком судебном процессе, переросшем в социальный конфликт. Вообще, начиная с XIX века в Европе, и в частности, во Франции, утвердился тип писателя, который оставался сторонним наблюдателем происходящего. Дело писателя – творить, работать над художественными произведениями. Золя вернул литературной деятельности ту активную роль, которую она играла в предшествующем XVIII веке. Золя как защитник Дрейфуса повторил поступок Вольтера, выступившего в своё время в защиту несправедливо обвинённого Каласа. Заняв столь определенную нравственную позицию (Золя опубликовал обращенное к французскому президенту открытое письмо, в котором говорилось о предвзятости военного суда и об отсутствии у обвинителей серьёзных улик против Дрейфуса), писатель произвёл огромное впечатление на современников как во Франции, так и за её пределами. Анатоль Франс писал, что Золя явился «целой эпохой в истории человеческой совести». Чехов, который вообще не любил Золя, поскольку его художественный метод действительно был ему глубоко чужд, писал: «Сегодня мне грустно, умер Золя. Как писателя, я мало любил его, но зато как человека, когда шумело дело Дрейфуса, я оценил его очень высоко….». Соотечественники тоже не слишком признавали Золя – писателя, тем не менее, он был удостоен великой чести быть похороненным в Пантеоне, усыпальнице выдающихся людей Франции, но ни как автор «Ругон-Маккаров», а как защитник Дрейфуса.
Читать дальше