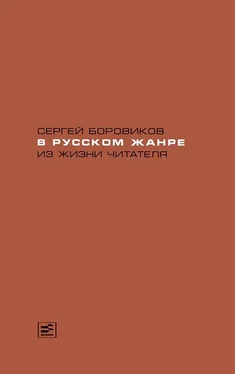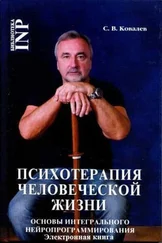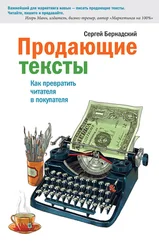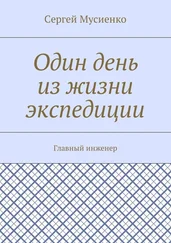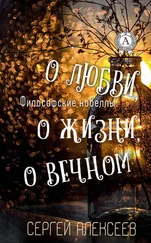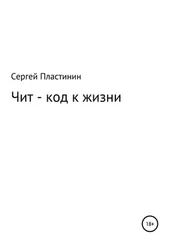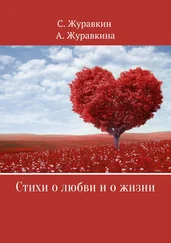Но — к Васькину. Тогда в городе регулярно проводились встречи-беседы с деятелями культуры, где помимо будничной идейно-партийной обработки, бывали и «особые», как подчёркивалось, лекции. Например, по международному положению, их читал главный обкомовский международник, горький пьяница и тупица, из уст которого я своими ушами слышал ответ на чей-то робкий вопрос по поводу ввода войск в Афганистан: «Ничего, мир иногда должен вздрогнуть» (вряд ли бы он позволил себе такую отсебятину, такова стало быть была инструкция для «особых» лекций). Были ещё для тех же деятелей «семинары» при горкоме, на которых — честное слово! — поили водкой, но это отдельная песня.
Встречались с деятелями культуры и работники госбезопасности.
Однажды, в начале 60-х годов пришёл отец домой выпивши, что бывало с ним крайне редко, а точнее после писательских и партийных собраний, был агрессивно-возбуждён, что опять-таки бывало редко, и, призвав меня, потребовал, чтобы я никогда и нигде не болтал, не распускал язык, а главное, никогда никому не давал слушать наши магнитофонные записи и не рассказывал, что у нас записано на магнитофоне. А что у нас было записано на магнитофоне?
Магнитофон был тогда довольно редкой игрушкой, и портативный наш — размером и весом со средний чемодан рижский «Spalis» — так и вовсе. Записано же на нём на толстой плёнке, об которую резались пальцы, было моим старшим братом, радиолюбителем, шестидесятником и пьяницей, несколько получасовых, что казалось чудом, размером с десертную тарелку, кассет: Вертинского, Петра Лещенко, Морфесси, Утёсова, Сокольского, Аллы Баяновой, Алёши Дмитриевича, а также приятной, сладковатой зарубежной эстрады 50-х годов, всяких опавших листьев, бесаме мучо, сэси бон и прочего.
И вот этого-то Васькина, толковавшего за — как тогда утверждали знающие люди — самую высокую в области зарплату притихшим от доверия писателям, я встретил сегодня. Его острые глазки так же внимательно взглянули на меня из-под кустистых бровей, как и в тот вечер середины 70-х, когда и я приобщился к доверенной аудитории писателей и работников журнала «Волга», и уже не в постресторанном пересказе папаши, но собственными ушами слушал о раскрытии в городе работниками госбезопасности группы, члены которой занимались антисоветской пропагандой, для чего слушали и записывали на магнитофон «голоса», перефотографировали книги и журналы враждебного содержания, а также вечерами на квартире — клянусь, именно так и сказал: «при погашенном свете» читали стихи Марины Цветаевой и Пастернака (ударение по последнем слоге, и с мягким знаком и «е» вместе «э» — Пасьтернака), и «нередко эти, с позволения сказать, «чтения» заканчивались (гадливое выражение на фельдшерском лице) оргиями».
* * *
Разумеется, провинциальная культура, литература, были в большей степенью задавлены советской властью, более несвободны, чем столичные. Местные деятели не позволяли себе поведения а-ля Евтушенко или Любимов. И всё же…
Тогда же, в начале 70-х, в Саратове была «обезврежена» группа неких интеллигентов, про которую упомянул генерал-фельдшер. Чтобы не было политики в чистом виде, им ещё шили распространение порнографии. В областной партийной газете появилась статья «У позорного столба», у героев которой прошли обыски, начались умеренные репрессии, скажем, доцентов переводили в лаборанты, а афиши концертов пианиста Анатолия Катца заклеили объявлениями типа кина вам не будет. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы одна из фигуранток, врач, после обыска не повесилась.
А в те времена наказание за любой идеологический крен с одной стороны, требовало, как нынче выражаются, симметричного, только не ответа, а наказания. Таким образом осуществлялось равновесие между либералами и государственниками, западниками и русофилами. Величайшим мастером по части этого равновесия был Александр Чаковский и его «Литературная газета». Но у самих представителей левого и правого уклонов такая политика одобрения не имела. Все были недовольны и утверждали: западники-либералы, что наверху сочувствуют мракобесам-черносотенцам, а государственники-русофилы, что пресса, с попущения верхов, сплошь захвачена сионистами-русофобами.
И тут органам, а теперь уже больше обкому помог журнал «Волга». В другое время на статьи, которые стали предметом осуждения для баланса с саратовскими «сионистами-западниками» внимания не обратили бы.
Две статьи, которые вызвали беспокойство обкома (конечно, с подачи ЦК, ибо в обкоме такую крамолу не обнаруживали). Одна — саратовского не то доцента, не то профессора пединститута, никому не известной верной ученицы Валерия Друзина что-то о национальном характере в литературе — точно не помню, но, с точки зрения 1949 года, в статье всё было в порядке, обличался космополитизм, воспевались «истоки» и «корни». Вторая — всем известного Михаила Лобанова под названием, кажется, «Стрежень» — о романе Анатолия Иванова «Тени исчезают в полдень», где про одного из персонажей, кулака, было сказано, что он представляет собою опять-таки что-то стрежневое, истоки, корни и т. п. Стрежнем вообще-то называется центральная глубокая и судоходная часть русла, давно вытесненная немецким фарватером. Но критикам патриотического лагеря это слово полюбилось, быть может, они путали его с предельно созвучным словом стержень.
Читать дальше