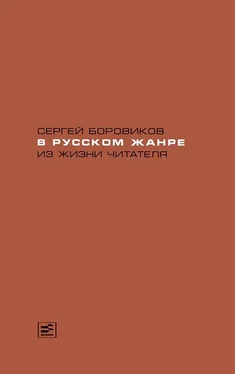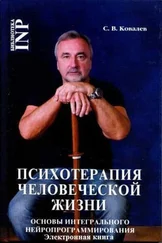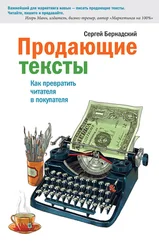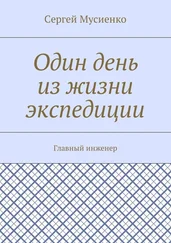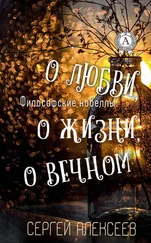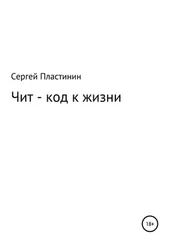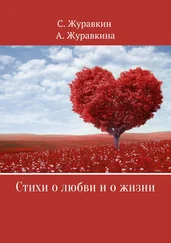Я бы сказал, вялое любопытство царило в толпе. Синее небо, жара, фонтан, подошёл пьяный с боксёром-сукой, на которую бросилась кошка, до тех пор спящая в консерваторской тени, и собака испугалась: глаза маленькой дымчатой кошки горели страшной злобой.
Чем завершались бдения не знаю, ушёл. Все кришнаиты были лицами славяне.
8 августа 1992
* * *
Шёл пешком из 1-й советской больницы с перевязки, прошёл весь центр города, а по-старому так и весь город. Почему-то очень коротко получилось, словно бы летел, а не шёл, хотя не спешил, и не к цели. Пять градусов тепла, зима всё задерживается, сыро, всё в мокрых листьях, и всё глухо, легко, вне времени, и — дома, дома!
Что со мною делается с возрастом и осенью? Если раньше когда-то я любил бродить улицами и фантазировать, глядя на окна, силуэты, слыша и нюхая, то нынче я словно бы читаю, даже впитываю, пью подряд городской пейзаж, как текучее непрекращающееся целое.
Это — давно, а сегодня ещё острее, может быть, после запаха больницы, нейрохирургического отделения, больных в коридорах. Как хорош старый Саратов в квартальчиках на Пушкинской (бывшая Малая Кострижная), Шевченко (бывшая Скучная), Яблочкова (бывшая Малая Казачья), Большой Казачьей, и то, что перекрестья дворов, брандмауэров, пустых палисадников, голых ветвей, сырых крылечек, ставень, наличников, бочек, труб, проводов, лавочек, корыт, ступеней, лестниц, железных дверок, кованых крючков и задвижек, водосточных желобов, ржавчины, яркой красноты истлевшего кирпича, перламутра грязных стёкол, желтизны листьев, серости старого дерева, черноты мокрой земли, голубизны белья на верёвках, разноцветности тряпок и одежд, — всё это родное то и дело заслоняется, пересекается, отфонивается нависающими силикатно-кирпичными громадами, делает родное ещё роднёй.
А из людей, что-то пробудивших в памяти в эту дорогу в одиннадцатом часу утра 4 ноября 1992 года, я встретил единственного.
Высокий, сухой старик в военном плаще, шляпе с маленькими полями. Он меня в лицо знать никак не должен, поэтому меня удивило то, что и он в меня вгляделся. Или видел меня по ТВ. Или профессиональная привычка. Хотя по первой специальности он фельдшер, чего уж там. Правда, когда я его наблюдал, был он уже не фельдшер, а генерал-майор безопасности, начальник УКГБ по Саратовской области. Васькин Василий Тимофеевич.
Имя любого начальника КГБ произносилось негромко. Как и возглавляемого им учреждения.
При всей всеми признаваемой независимости отцовского нрава и некоторой левизне убеждений, были области, ступить в которые он, как и всякий член партии, полагал безумием. Однажды он получил по почте письмо оттуда со всякими нехорошими словами в адрес КПСС. Отец прямиком отправился в обком, к первому секретарю, и через пять минут был принят и письмецо передал. Препарируя сейчас тот случай, отчётливо выделяю следующие моменты.
1. Письмо и факт его получения были не такой уж редкостью. Какое-нибудь НТС брало в руки справочник того или другого творческого союза с домашними адресами членов и рассылало некие обращения. Отцу несомненно польстило, когда он прочёл своё имя-отчество-фамилию на антисоветском письме, но, конечно, стало и страшно.
2. Времена были патриархальные, тогда первый секретарь обкома знал в лицо каждого писателя и художника в городе и всегда готов был принять. С конца 60-х такого уже не наблюдалось. Помню, шёл с группой коллег с какого-то собрания в Саратовском отделении СП, которое располагалось неподалёку от обкома, и нам встретился тогдашний персек А. Хомяков, который, прервав свой маршрут, направился к нам и, кивнув остальным, протянул руку мне, и тут я увидел густо окружившие меня злобно-завистливые взгляды товарищей по перу. А просто Хомяков из этой группы совписцев знал в лицо только меня, как главного редактора «Волги».
3. Побежал отец в обком не только, а может быть, и не столько из страха, сколько из дисциплины, а также простого знания действительности: в те годы перлюстрировалась вся почта, получаемая из-за рубежа, даже письмо пионерки из провинции Хайнань саратовской подруге с предложением обменяться портретами вождей и отрядным опытом. Помню, по беспечности, завязал уже куда в более поздние (середина 70-х) года знакомство с француженкой (купил у неё с рук билет в «Таганку»). Проводил до общежития, никаких, упаси бог, поцелуйчиков, но адресами обменялись, ибо возникла у меня корыстная и тайная цель попросить прислать мне из Парижа изданный там сборник стихов и песен кумира моего Александра Вертинского, а повод был тот, что француженка моя, Анна Булодон, была начинающей слависткой и писала диплом по нашей деревенской прозе. С тех пор у меня нет книг Фёдора Абрамова, Евгения Носова, Бориса Можаева и других, ибо послал я на адрес общежития МГУ увесистую посылку, и принялся с нетерпением ждать ответа. Из Москвы он пришёл скоро, в нём была благодарность за книги и неуверенное обещание, вернувшись во Францию, поискать книгу моего любимого Вертинского. Спустя недолгий или долгий срок я получил из Франции письмо, никак не могу даже примерно вспомнить, что в нём Анна писала, но очень хорошо помню, что конверт был явно вскрыт и грубо заклеен. А спустя ещё время, куратор журнала «Волга» из КГБ вдруг спросил меня: «А с Францией больше не переписываешься?». Это у них стиль такой был — пугать: среди какого-нибудь пустяшного разговора вдруг пустить своего серного дыму, показать своё всеохватное о тебе и твоих тайнишках и страстишках знание. И в том, что отец направился с антисоветским посланием в обком, хотя прекрасно знал, что положено бежать в приёмную КГБ на Вольской улице, была пусть своеобразная, но фронда — миновать Ведомство.
Читать дальше