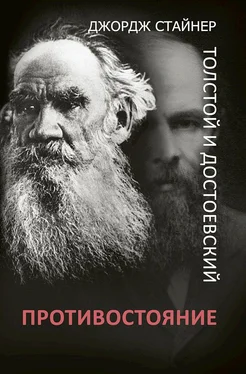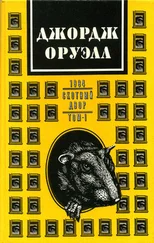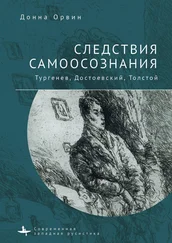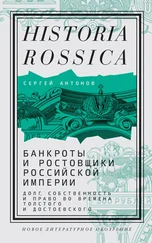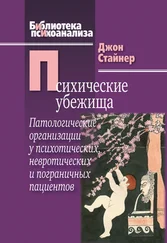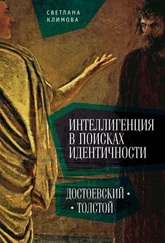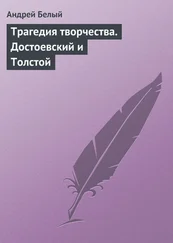Когда еще была божественна земля
И были горести божественны земные;
Когда был сонм богов — зато среди людей
И слуху не было еще об атеистах… [52] Пер. Е. Баевской.
Вот именно: когда сонмы богов воюют в человеческих распрях, волочатся за смертными женщинами и ведут себя скандально даже по меркам самой либеральной этики, — тут никакого атеизма не нужно. Атеизм возникает в противовес живому и достоверному Богу, а мифология с комическим оттенком атеистической реакции не вызывает. В «Илиаде» божественное по своей сути человечно. Боги — это гиперболизированные смертные — причем зачастую в сатирическом ключе. При ранении их стоны громче людских, при влюбленности их вожделение более всепоглощающе, при бегстве от человеческих дротиков они резвее земных колесниц. Но в морально-интеллектуальном плане боги «Илиады» напоминают гигантских дикарей или зловредных детей, наделенных избыточной силой. Действия богов и богинь в Троянской войне увеличивают масштабы человека, ибо при равных шансах смертные герои более чем успешно удерживают сильные позиции, а если весы склоняются не в их пользу, условные Гектор или Ахилл демонстрируют, что в смертности есть свое величие. Понижая богов до уровня человеческих ценностей, «первый» Гомер не только добивается комического эффекта, хотя подобный эффект очевидно усиливает свежесть и «сказочность» поэмы. Он, скорее, подчеркивает превосходство и достоинство человека-героя. И именно это — главная тема его поэмы.
В «Одиссее» пантеон играет роль менее заметную, но вызывает больший трепет, а другая античная эпопея, «Энеида», и вовсе пронизана симпатией к религиозным ценностям и практике. Но «Илиада», хоть она и принимает мифологию сверхъестественного, обращается с ней иронично и очеловечивает ее материал. Подлинный центр веры лежит не на Олимпе, а в признании Мойры, непреклонной судьбы, которая своими явно слепыми казнями утверждает принцип справедливости и равновесия. Религиозность Агамемнона и Гектора состоит в приятии рока, в вере, что спонтанные порывы к гостеприимству священны, в почитании назначенного богами часа или места и в смутной, но неотступной вере, что гнев богов — причина движения звезд или упрямства ветра. В остальном же действительность имманентна миру человека и его чувств. Не знаю более подходящего слова, чтобы выразить нетрансцедентальность и безусловную «физичность» «Илиады». Ни одна другая поэма сильнее не спорит со словами «мы созданы из вещества того же, что наши сны» [53] Слова Просперо из «Бури» Шекспира. Пер. М. Донского.
.
И именно здесь лежат важные точки ее соприкосновения с искусством Толстого. Его реализм тоже имманентен — в мире, основанном на соответствии наших чувств действительности, Бог странным образом отсутствует. В Главе 4 я попытаюсь показать, что подобное отсутствие не только увязано с религиозным смыслом толстовских романов, но и составляет скрытую аксиому толстовского христианства. Сейчас же достаточно сказать, что за литературной техникой «Илиады» и Толстого стоит более или менее одинаковая вера в центральное место персонажа-человека и в непреходящую красоту окружающей природы. В случае с «Войной и миром» аналогия даже полнее; там, где «Илиада» напоминает о законах Мойры, Толстой излагает свою философию истории. В обоих произведениях хаотичность битвы символизирует повышенную степень случайности в человеческой жизни. И мы считаем роман «Война и мир» героической эпопеей в подлинном смысле именно потому, что война в нем — как и в «Илиаде» — изображена в своем блеске, в своей радостной свирепости и в своем пафосе. Никакой толстовский пацифизм не может отменить восторг юного Ростова, когда тот бросается на отставших от части французов. Наконец, дело еще и в том, что в «Войне и мире» речь идет о двух народах — даже, скорее, о двух мирах, — схлестнувшихся в смертельной схватке. Уже одно это дает повод многим читателям — да и самому Толстому — сравнивать «Войну и мир» с «Илиадой».
Но ни военная тема, ни изображение судеб народов не должны помешать нам разглядеть антигероичность философии романа. В книге есть моменты, где Толстой настойчиво проповедует, что война — это бессмысленное кровопролитие, результат тщеславия и недалекости высших кругов. Кроме того, в некоторых фрагментах Толстой занят исключительно поисками «истинной правды» в противовес правде мнимой, утверждаемой официальными историками и мифографами. Его латентный пацифизм, его поиски исторических свидетельств — все это не находит параллелей с позицией Гомера.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу