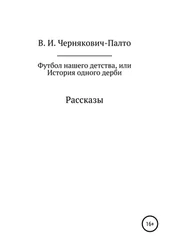«Вы считаете, что такой бесчеловечный приговор не мог иметь места? Вот вам показания живого человека, в правдивости которого вы не осмелитесь усомниться, — почтенного духовного лица, каноника».
* * *
Понмартену удалось установить, где проживает каноник Анжелен.
Журналиста привели к седому, учтивому старцу. Нетрудно было убедиться, что, несмотря на преклонный возраст, каноник сохранил ясность ума и свежесть памяти.
Он произвел впечатление свидетеля добросовестного и надежного. Полеты фантазии не были ему свойственны. О том, что было пережито, увидено и услышано, он рассказал неторопливо, просто и искренне.
Многие подробности запомнились ему с удивительной отчетливостью. Возможно, потому, что события того памятного дня были действительно из ряда вон выходящими. Они резко выделялись на фоне обычного, размеренного и мирного образа жизни епископа и его секретаря.
Тщательно, с журналистской бойкостью и блеском (и, я думаю, с внутренней радостью) Понмартен записал его рассказ.
* * *
Осенним вечером монсеньер Миолли и Анжелен сидели за столом в ожидании ужина. У ног епископа мирно спал старый пес Медор.
Разговор шел о брате епископа, наполеоновском генерале Миолли. Он блестяще отличился в недавнем сражении. Газеты восторженно писали о нем. Это радовало епископа.
Старая служанка Розали расставила на столе приборы и вышла.
Внезапно раздался резкий стук в дверь.
Епископ сохранял хладнокровие.
Бледная от испуга Розали спустилась по лестнице.
— Святая дева, кто может так стучать? — воскликнула она, всплеснув руками. — Говорят, что сегодня по городу шатались подозрительные люди.
Медор, проснувшись, тревожно залаял, потом протяжно завыл.
— Спокойно, Медор! — сказал епископ. — Розали, подите откройте дверь.
Вошел широкоплечий, рослый человек лет тридцати. Наружность его не внушала доверия.
«Было бы не очень приятно встретить его где-нибудь в глухом лесу», — подумал Анжелен.
Все же он казался не столько свирепым, сколько подавленным, измученным голодом и усталостью. Растерянное выражение его лица резко контрастировало с могучими плечами и богатырским сложением.
По лбу вошедшего струился пот. Перед величавым обликом Миолли он как-то сник, пробормотав несколько невнятных фраз.
Освобожденный после отбытия пятилетней каторги, путник целый день добирался пешком до города… Пристанища он не мог найти нигде. Тщетно стучался в двери гостиниц.
«Каторжника», пусть бывшего, никто не хотел впускать. Никто не хотел продать ему съестного.
Пожилая женщина, выходившая из церкви, направила его к дому Миолли.
Сейчас он настороженно смотрел на хозяев. Очевидно, он опасался, что у «попов» встретит не более гостеприимный прием, чем в гостиницах.
— Успокойтесь, мой друг! — дружелюбно промолвил епископ.
* * *
Увлеченно слушая рассказ Анжелена, журналист по профессиональной привычке пристально наблюдал за рассказчиком.
«— О месье! — Волнение звучало в голосе каноника. — По прошествии долгих лет мне кажется, что я слышу эти слова, исполненные милосердия, простоты и человечности. Благословенный голос проникал в душу, успокаивал, трогал и умилял, внушая уверенность, что есть в мире и вера, и надежда.
«Мой друг, мой друг!» — повторил Пьер Морен, как бы говоря с самим собой. Казалось, его мужественное и мрачное лицо прояснилось. Сдержанная слеза блеснула в его ресницах».
* * *
Пьер Морен назвал себя, рассказал, за что он попал на каторгу и как безжалостно с ним обошлись владельцы гостиниц.
— Садитесь вот здесь, — сказал епископ, пригласив его к столу, застланному белоснежной скатертью. — Розали, еще прибор!
Трудно передать выражение изумления, смущения и благодарности, которым светилось лицо каторжника, хотя поначалу на нем еще проступало недоверие. Морен как будто боялся, что вдруг он проснется от сладкого сна.
Но вот Розали придвинула ему стул и поставила третий прибор. Перед ним оказалась дымящаяся тарелка с супом. По знаку монсеньера Анжелен откупорил бутылку старого ламальга, покрытую паутиной. Изумление Морена перешло в восторг.
Пьер Морен пил и ел с жадностью, которую он и не пытался скрывать.
Как изысканно выразился благовоспитанный каноник (а может быть, журналист, записавший его рассказ), «по мере того, как утолялся животный аппетит, можно было видеть, как в глубине этой души, погрязшей во мраке, совершается таинственная работа. Погруженный в океан позора, ужаса и страдания, его мозг начал размышлять, когда тело перестало страдать от голода».
Читать дальше
![Ефим Добин История девяти сюжетов [рассказы литературоведа] обложка книги](/books/27190/efim-dobin-istoriya-devyati-syuzhetov-rasskazy-litera-cover.webp)

![Елизавета Драбкина - История одного карандаша [Рассказы]](/books/30471/elizaveta-drabkina-istoriya-odnogo-karandasha-rassk-thumb.webp)