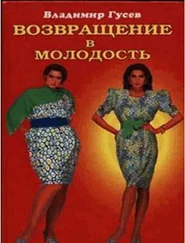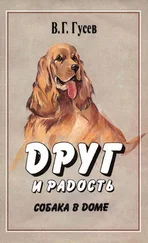В отличие от этого Дух, как истина, благо (добро), красота (по традиции платоновской), не подлежит материальному, а является самостоятельной содержательной субстанцией бытия (я иду — дарю цветок — женщина улыбается — я улыбаюсь и иду далее: я сделал доброе дело). Дух в известном смысле противостоит душе, о чем жестко пишут Блок в статье «Интеллигенция и революция» (речь о наиболее известном и популярном) и иные многие. «Психологизм» в этом смысле — это нечто противостоящее Духу, более низкий (или мелкий) слой внутренней жизни, чем духовное. Так и следует понимать, например, принятые слова о Достоевском, что он пишет бытие, а не быт, и тому подобное: что это не психологизм. Это Достоевский-то не психологизм, с его грандиозным психологическим анализом и т. д.? Но тут дело в терминах. Ну а бытие тут — Дух. У нас многие до сих пор не знают, в чем же, например, «онтологичность» понятия Дух. Ведь онтология — это учение о бытии, а бытие — это материя. Но для подавляющего большинства из авторов мировой философии бытие — это как раз Дух, и Достоевский его и пишет, минуя быт.
Нас, однако, занимает в данном случае более приземленное и литературно-конкретное значение слова. «Психологизм» как стиль, ткань, как «психологический анализ»: именно. То есть в том смысле, в каком и Достоевский — это грандиозный психолог.
Изобразительной детали внутри самой сферы «статичных» деталей противостоит выразительная — деталь «психологии», т. е. просто внутренней жизни в данном случае. Это прямое, внепредметное называние внутренних состояний. Сцепление этих деталей дает все то, что и называют психологическим анализом применительно к прозе. Относительно поэзии все это так же, но самого-то «анализа», конечно, обыкновенно значительно меньше — есть просто называние состояний. Здесь, вслед за Д.Н.Овсянико-Куликовским, обычно говорят просто о выразительной детали в противовес детали изобразительной. Впрочем, как мы знаем, стоит назвать стилевой «закон», как тут же просятся «исключения», претендующие на роль самих правил. Психологический анализ в стихах у Баратынского, Брюсова вот он, а в «Страшной мести», в прозе у Гоголя, его нет.
Психологический анализ как стиль, как, если угодно, само понимание мира на стилевом уровне напряженно проведен у Пруста, у Джойса, часто у Альберто Моравиа и других менее значительных авторов. У нас часто — у А.Битова, М.Слуцкиса и иных. Изобразительных деталей не то что нет — их не может не быть, — но они втянуты в систему психологизма, служат ей. Ради этого «потока» размыт и характер как таковой. Каждый по-своему Пруст и Джойс исходят из того, что объективного мира нет, целого нет — есть неизъяснимый поток импульсов внутренней человеческой жизни. Отсюда и метод. Здесь и отличие от все тех же Толстого и Достоевского, на которых сам Пруст справедливо ссылается как на основоположников нового психологического анализа (хотя до них были Сен-Симон, автор «Мемуаров», Руссо, Стендаль, Рескин и др.); но у Толстого и по-иному у Достоевского такой анализ входит в систему целого, прежде всего характера, а новизна самого Пруста иная: «И только для того, чтобы ответить: „Нет, спасибо“, — приходилось сразу остановиться и извлечь из глубин свой голос, который, позади губ, бесшумно, бегло повторял все слова, прочитанные глазами; нужно было остановить этот голос, исторгнуть его из себя для того, чтобы вежливо сказать: „Нет, спасибо“, — придать ему видимость обычной жизни, интонацию ответа, которую он утратил». «Лицом к лицу лица не увидать», а видится нечто — и смутно-тайное и текучее: вот метод и новизна самого Пруста в контраст с Толстым. Пруст смотрит слишком близко, лицо в лицо — не видит целого, видит лишь поры, отсветы и изменчивость; Толстой же, при всем своем упомянутом динамизме, смотрит более отстраненно и целостно: «Графиня Шофинг соединяла в себе все условия, чтобы внушить любовь, в особенности такому молодому мальчику, как Сереже. Она была необыкновенно хороша и хороша как женщина и ребенок… детское личико, дышащее кротостью и веселием, кроме того, она имела прелесть женщины, стоящей в главе высшего света; а ничто не придает женщине более прелести, как репутация прелестной женщины. Графиня Шофинг имела еще очарование, общее очень немногим, это очарование простоты — не простоты, противуположной аффектации, но той милой наивной простоты, которая так редко встречается, что составляет самую привлекательную оригинальность в светской женщине. Всякий вопрос она делала просто и так же отвечала на все вопросы; в ее словах никогда не заметно было и тени скрытой мысли; она говорила все, что приходило в ее хорошенькую умную головку, и все выходило чрезвычайно мило. Она была одна из тех редких женщин, которых все любят, даже те, которые должны бы были завидовать».
Читать дальше