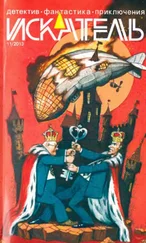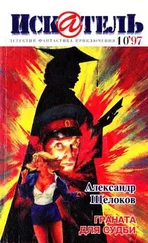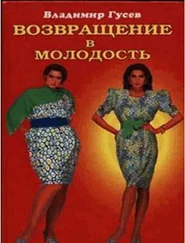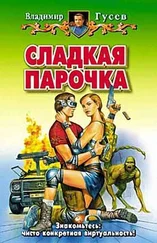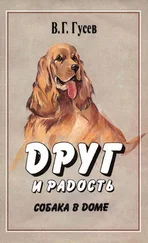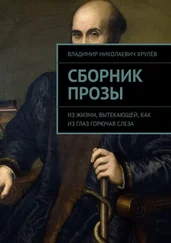Есть и вовсе уж «частный» прием, который тоже нередко становится общим принципом. Это так называемое нагнетание. Свойственный не только лишь прозе, обычный в музыке (эти сгезсепйо) и заметный в поэзии («За все, за все тебя благодарю я» и далее), этот прием особенно остро и проблематично выглядит именно в повествовательной прозе и иногда и на уровне «просто приема», а не общего типа композиции, предопределяет чисто художественный, точнее — стилевой, художественно-технический успех или неуспех автора. Как мы уже видели, перед прозаиком вечно стоит особая проблема одновременных предельной свободы и предельного уплотнения, вообще ПРЕДЕЛА преодолеваемого материала. Отсюда явление нагнетания. Отчасти мы его косвенно видели и в концовке у Бунина: понятно, что все «приемы», особенно «интенсивные», не живут отдельно и порознь, что все это — целое-Нагнетание — это нарастание свободы и плотности, это рост препятствий со стороны материала и воля к его одолению. Шкловский и иные, применяя тут термины «ретардация» (задержка) и иные, склонны отчасти фетишизировать специально рассудочную волю автора в организации и самих-то «задержек»; и в слове-то «задержка» ясен, как видите, оттенок специальности, заданности, организованного усилия. Думается, все же вряд ли это столь уж продуманно: просто художник-прозаик ОЩУЩАЕТ внутреннее, имманентное сопротивление материала, этой «вещи в себе», и, если он художественно добросовестен, пытается и показать это реальное сопротивление, и столь же ВНУТРЕННЕ одолеть и преодолеть его. Если это не удается, часто возникает дефект повествования, обычней всего известный под девизом «зияние»; нет преодоления материала — и нет чувства свободы, предела, полноты сил. Все это хорошо пояснить одним непрямым примером. В «Короле Лире» есть персонаж — старый Глостер. Ослепленный, покинутый, проклиная своих сыновей, он желает покончить самоубийством. Между тем «положительный» сын его, Эдгар, в противовес инфернальному бастарду, псу Эдмунду, желает отцу добра. Он сопровождает его инкогнито. Отец спрашивает, где он. Сын знает о его намерениях и отвечает, что старик на краю ужасной бездны, внизу океан и скалы. Сын предостерегает: еще шаг — и вниз. Старик вежливо благодарит неведомого провожатого, но делает этот шаг. Между тем он стоял на кочке — почти что на ровном месте. Он, конечно, падает, но жив и долго не может определить, по ту иль по эту сторону двери в ад он теперь находится. Сын подходит к отцу и затем спасает его.
Что было для старого Глостера благотворным шоком, для неопытного или несильного повествователя-прозаика обычно является поражением. Заявленные пропасть, скалы и волны так и должны быть — пропасть, скалы и волны: проверкою на пределе. Иначе — «мах на солнце, бах об землю», мизер, зияние. Отсутствие и самого материала, и победы над ним, т. е. «густоты» жизни, высоты и свободы.
Целиком по принципу нагнетания построен искусно сделанный роман Хемингуэя «По ком звонит колокол» — типичный «роман-событие» (по терминологии некоторых: роман XX века в противовес «роману-судьбе» века XIX вроде «Саги о Форсайтах», хотя формально и «Сага» — XX век). Требуется взорвать мост, Роберт Джордан прибыл для этого. Но это нехитрое действие все оттягивается, а СОБЫТИЯ нагнетаются. За это время совершается столько, сколько в ином романном времени — за десятилетия. Событие, этот взрыв моста, все время готово произойти, но есть ситуация, которую и в жизни, и в искусстве можно бы называть — система совпадений, хотя эти совпадения имеют, по-видимому, некий таинственный общий ритмический источник и совпадениями как таковыми, строго говоря, вероятно, не являются. Ибо совпадение — это чистая случайность, а мы тут ощущаем некий закон ритмического сгущения. Это, конечно, зависит и от уровня и характера таланта автора — почувствовать для текста такую закономерность, освоить ее как именно естественную, а не насильственную, интуитивно определить ее меру. Хемингуэй тут мастер в этом. За три дня чего только не происходит: герой влюбляется и успевает пройти весь роман, как если бы он длился десять лет; в горах Испании идет снег, чего там в этом месте не случалось отроду, а вот нате — и это откладывает действие; появляются вражеские истребители, которых так давно не было, возникает фашистский карательный отряд, чего тут тоже не видели, герой «случайно» едет со знакомыми по всем позициям, что, конечно, дает автору возможность представить нам общую панораму республикано-фашистской войны в Испании; происходит и масса всякого прочего. По ходу дела даются, разумеется, истории и биографии героев, рассказываются разные сказки и были, идут должные ретроспекции и т. д. Идет сгущение, у з н а в а е мое нами. Но вот и развязка: гибнут герои, ощутима глубина жизни… Таков роман-событие — одна из форм реакции большой эпической формы на динамику века.
Читать дальше