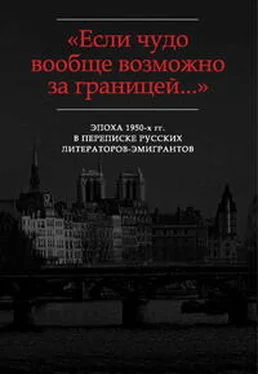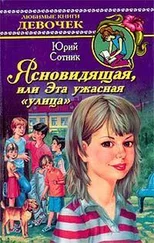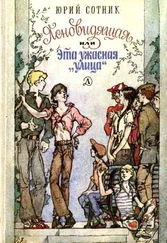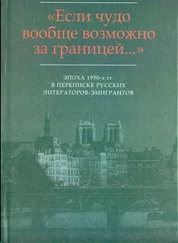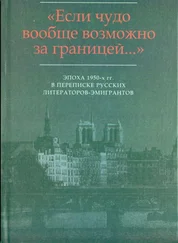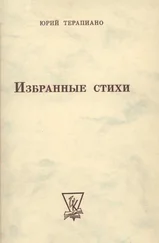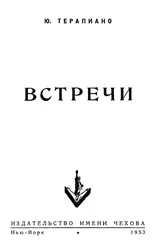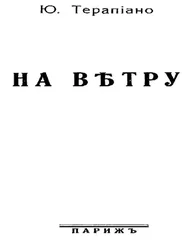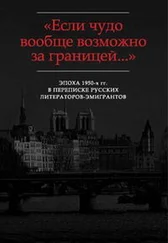Желаю Вам всего хорошего! И<���рина> Н<���иколаевна> просит передать свой привет.
Ваш Ю. Терапиано
23. IV.56
Дорогой Владимир Федорович,
На днях говорил о Вас с Адамовичем, которому очень понравилось Ваше повествование о молодости в «Н<���овом> ж<���урнале>». А<���дамович> выражал сожаление, что Вы так далеко от Парижа. Я к нему присоединяюсь, т. к. давно уже знаю Вас. Имеете ли Вы теперь «Р<���усскую> м<���ысль>» — с отъездом Г. Струве? — там и А<���дамович>, и я упомянули о Вас.
На прошлой неделе, в предисловии к книге Маковского [150] Маковский С. В лесу: Седьмая книга стихов. Мюнхен, 1956.
(стихи) я подчеркнул, что с 1939 г. прежняя парижская атмосфера кончена, что теперь нужно ждать, как послевоенные поэты определят свою «ноту», но что до сих пор все они разъединены, уединены (как теперь и бывшие участники «пар<���ижской> ноты») и что нового мироощущения, новой атмосферы, несмотря на то что прошло столько лет с 1945 г., еще нет.
Конечно, никакие «надо» не могут помочь делу, но другое — когда «надо» берется не извне, а внутренне чувствуется. Вот как мы в свое время чувствовали, что нельзя, как символисты, утопать в «безднах и словах с большой буквы» или что «акмеизм — скуден, внешен и дает камень вместо хлеба». А отсюда и пошла «нота». Вот скоро «столп» п<���арижской> ноты — Лидия Червинская — выпускает новую книгу [151] Червинская Л. Двенадцать месяцев. Париж: Рифма, 1956. Рецензию Терапиано на это издание см.: Терапиано Ю. Новые книги // Новое русское слово. 1956. 12 августа. № 15751. С. 8.
. Горе ей, если она «осталась, как была в 1936 г.».
Не понимаю — «время индивидуализма прошло», «надо выходить в мир» — как же обойтись без индивидуального, ведь весь мир все-таки мы видим через себя, в себе и «проблемы» — тоже значительны лишь по отношению к нам? Но то, что, м. б., сейчас настает время «большого жанра» — спорить трудно, хотя до сих пор в этом плане не было удачи. И если (лишь отчасти, на мой взгляд) верно, что Г. И<���ванов> исчерпал «малую форму» и что вообще «нытье» уже невыносимо, то все же у меня лично нет особенной надежды и на «большую форму» [152] Марков впоследствии развил эти мысли в статье «О большой форме» (Мосты. 1958. № 1.С. 174–178).
, нужно что-то другое, какой-то внутренний поворот, чтобы смотреть со своей точки зрения. Ведь поэзия напоминает бильярдный шар, который катится по плоскости стола, каждый миг пересекаясь с ним в к<���акой>-н<���ибудь> точке. Это символ «внутренннего — поэта» и «внешнего — мира». А наш зарубежный шар крутится пока на месте, а не катится!
Не очень очарован сходством с Елагиным и надеюсь, что не так уж похож на свои фотографии, хотя для поэта его земной образ не столь уж важен!
Здоровье мое лучше, но еще 1) режим — диета, 2) швы, кот<���орые> болят, 3) связанность в движениях и 4) не могу писать на пишущей машинке.
Теперь я больше пишу в «Р<���усской> мысли», чем в «Н<���овом> р<���усском> с<���лове>». Решил ответить Ю. Офросимову [153] Юрий Викторович Офросимов (1895–1967) в статье «Паки и паки» полемизировал с идеологией «парижской ноты», обвиняя ее во всех возможных грехах и полагая, что «следовало бы ее назвать поистине трагической: для нашей эмигрантской литературы» (Новое русское слово. 1956. 25 марта. № 15611. С. 8). Ответ Терапиано под названием «Точки над i» появился в той же газете полтора месяца спустя (1956. 13 мая. № 15660. С.8).
(новый «неизвестный», болван, очевидно, — ну как написать поэму «На удушение А. Ахматовой»?).
Ирина Николаевна и я шлем Вам поздравления с наступающим праздником Св. Пасхи.
Искренне Ваш Ю. Терапиано
6. VI.56
Дорогой Владимир Федорович,
Адамович преподает в Англии, в Манчестерском университете. Скоро начнутся каникулы, он приедет во Францию и будет в Париже, а потом в Ницце.
Постараюсь «познакомить» Вас с ним тогда, он интересный человек, и переписка с ним Вам может быть приятной. Что же касается «возрожденского головотяпства» — не удивительно, но т. к. сейчас там опять перемена редакции, — ушли Мейер [154] Мейер Георгий Андреевич (1894–1966) — публицист, критик, литературовед, сотрудник «Родной земли», позже «Возрождения».
и Яконовский [155] Яконовский Евгений Михайлович (1903–1974) — прозаик, журналист, в 1950-е гг. сотрудник парижских изданий «Возрождение» и «Русское воскресение».
, то есть надежда, что «В<���озрождение>» «исправится» [156] После того как в редакции «Возрождения» в конце 1953 г. произошли перемены (в частности, секретарем стал Е.М.Яконовский, а ГА. Мейер ближайшим сотрудником), многие авторы печатно заявили о прекращении сотрудничества с журналом. С.П.Мельгунов, ознакомившись с № 31 (январь 1954 г.), заявил о том, что не может больше «сотрудничать с “Возрождением” Гукасова» (Мельгунов С. Письмо в редакцию// Русская мысль. 1954. 8 января. № 622. С. 5). Двумя месяцами позже такое же письмо опубликовал и Ю.К. Терапиано: «Позвольте присоединить мое имя к списку сотрудников тетрадей “Возрождения”, отказавшихся принимать участие в этом журнале при настоящем составе редакции» (Терапиано Ю. Письмо в редакцию // Русская мысль. 1954.5 марта. № 638. С. 6).
. Но «В<���озрождение»> — не «Париж». Еще не имею «Н<���ового> ж<���урнала>», зато получил новые «Опыты» [157] В № 6 «Опытов», о котором говорит Терапиано, были опубликованы: «О Чехове» И.А. Бунина, «Комментарии» Г.В. Адамовича, «Заметки читателя» Ю.П. Иваска и «Заметки на полях» В.Ф. Маркова.
. Бунин в письмах — «как живой», очень для него типичный тон, Иваск правильно написал о Ваших «воспоминаниях» в «Н<���овом> ж<���урнале>», интересен спор А<���дамовича> и И<���васка> о будущей России — кто из них окажется «прав», но вероятно, прав будет А<���дамович> и Россия все-таки что-либо явит Западу, а не наоборот, по Иваску. Религиозная часть «Комментариев» А<���дамовича> написана хорошо, но сомненья его — не очень уж страшные, бывают более трудные вопросы в плане: «не могу», а «на небо — и одежда?» — даже наивно. Вероятно, и Достоевский за «непротивление злу» кулаком бы по столу стукнул. В «Заметках на полях» Вы очень вовремя напомнили о фальшивости термина «музыка» (и я, для которого музыкальной музыки нет, лишенный слуха, покраснел), которым так злоупотребляют гг. критики. Но что же делать, как иначе сказать о том, что «звучит внутри», хотя с музыкальной музыкой и не имеет общего? А о «диалоге с самим собой», по старости, вместо диалога с советской литературой, сказано зло, хотя и очень верно. Хорошо и о набоковской «пощечине Чернышевскому» [158] В «Заметках на полях» Маркова содержалось резкое суждение, вызвавшее бурю отрицательных откликов: «Глава о Чернышевском в “Даре” Набокова — роскошь! Пусть это несправедливо, но все заждались хорошей оплеухи “общественной России”» (Опыты. 1956. № 6. С. 65).
, не люблю «общественников», а при мысли вступить в объяснения, например, с Кусковой [159] С Екатериной Дмитриевной Кусковой (1869–1958) Марков в своих «Заметках на полях» вступил в полемику по поводу книги B.C. Варшавского «Незамеченное поколение».
по поводу поэзии — холодею. Как-то я послал давно, когда еще был молодым поэтом, в «Последние новости» стихотворение о Богоматери, а Милюков: «И как это Т<���ерапиано>, молодой человек, культурный, может верить в такие культурные пережитки?..»
Читать дальше