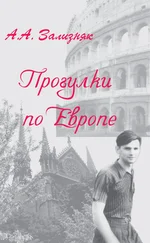Пушкину ещё невозможнее было уйти из жизни тихо и незаметно, как ему бы хотелось, потому что всякий мальчишка на улице узнавал его издали и цитировал: «Вот перешёл чрез мост Кокушкин…» (далее нецензурно) [14] Можно заменить любой другой, по читательскому вкусу, цитатой. Например: «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»
. Его фотогеничная личность уже стала сюжетом сплетни. С его же слов все достоверно знали — с кем, когда, где и о ком, и были в курсе, и держали на мушке, и ждали, что будет дальше. «Народ требует сильных ощущений, для него и казни — зрелище». Приходилось умирать на виду, на площади.
Тынянов, кажется, огорчался, что дуэль Пушкина, изученная в деталях и раздутая сонмом биографов, лирических откликов, обещаний клятвенно отмстить за него, театральных постановок, кинофильмов и просто досужих домыслов, скрыла от зрителей дело поэта, художника. Как будто не художник её оформил! Как будто она не была итогом его трудов!..
Может, и не была. Откуда нам знать? Может, стрелял человек, доведённый до крайности, загнанный поэтом в тупик, в безвыходное положение. Потому что сплетню, которая свела его в могилу, первым пустил поэт. Это он всё так организовал и подстроил, что человек стал всеобщим знакомым, ходатаем и доброхотом, всюду сующим нос и получающим публично затрещины. Это он, поэт, понуждал человека раскланиваться и улыбаться, заговаривая с каждым прохожим: «Гм! гм! Читатель благородный, здорова ль ваша вся родня?» На что и читатель охотно интересуется: а у тебя, Пушкин, вся родня в порядке?
Ох, как рискованно впускать в стихи биографию, демонстрировать на подмостках лицо. Это же самозванство! Начнут доискиваться, кто таков, на ком женился, зачем стрелялся.
«— Кто же я таков, по твоему разумению?
— Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку».
Сплетня, пущенная поэтом, набирала ярость. Но главный позор ждал впереди, за смертью, за дуэлью, которая — и он это подозревал, заранее содрогаясь, — разроет прожектором все закоулки так ярко прерванной жизни, любое пятнышко на жилете обратит в размалёванный туз. С дуэлью весь, подогреваемый издавна, интерес к его занимательной личности, к молве, к родне, послужившей причиной выстрела, достиг невиданной тяжести, какая только может обрушиться на человека.
Что, спрошу я прямо, потому что жизнь коротка, и вызов послан, и увертками уже не поможешь, что Пушкин, знавший себе цену, не знал, что ли, что векá и векá всё слышавшее о нём человечество, равнодушное и обожающее, читающее и неграмотное, будет спрашивать: ну а всё-таки, положа руку на сердце, дала или не дала? был грех или зря погорячился этот Пушкин? Если не вслух, интеллигентные люди, то мысленно, в журналах, в учебниках. Потому что не в постели, а на сцене умирал Пушкин. Не на даче, а на плахе целовалась или не целовалась Наталия Николаевна с прекрасным кавалергардом. Выстрел озарил эту группу бенгальским огнём.
— Ну а всё-таки?..
От одной этой мысли… «Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе…»
Мы не знаем, кто стрелял. Возможно, стрелял человек, Евгений, сумасшедший Евгений. В поэта, в Медного Всадника. Пуля отскочила.
Поэта ведь не убьёшь, не пробьёшь. Он будет расти, цвести, набираться славы и распускать позорный слух о Пушкине по всей планете, всяк сущий в ней язык… «Добро, строитель чудотворный!..» Но умирать-то приходится человеку.
«…Узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мёртвая и окровавленная, показана была народу».
Нет, не могу, не имею права согласиться с Тыняновым. Что ни придумай Пушкин, стреляйся, позорься на веки вечные, всё идёт напрокат искусству — и смерть, и дуэль, всё оно превращает в зрелище, потрясая три струны нашего воображения: смех, жалость и ужас. Площадная драма, разыгранная им под занавес, не заслоняет, но увенчивает поэзию Пушкина, донося её огненный вздох до последнего оборванца. И в своей балаганной форме (из которой уже не понять и не важно, кто в кого стрелял, а важно, что всё-таки выстрелил) правильно отвечает нашим общим представлениям о Пушкине-художнике. Покороче узнать — читайте стихи и письма, для первого — самого общего и верного впечатления довольно дуэли. Она в крупном лубочном вкусе преподносит достаточно близкий и сочный его портрет: «…Чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст!» (притча Пугачёва).
Фигура Пушкина так и осталась в нашем сознании — с пистолетом. Маленький Пушкин с большим-большим пистолетом. Штатский, а погромче военного. Генерал. Туз. Пушкин!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





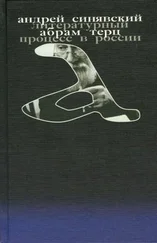
![Андрей Зализняк - Прогулки по Европе [litres]](/books/430207/andrej-zaliznyak-progulki-po-evrope-litres-thumb.webp)