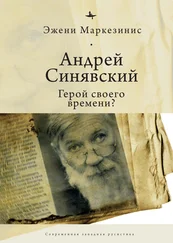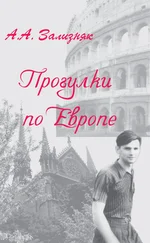Нет, через Онегина, с его размазанным лицом, с его зевающей во весь рот бездуховностью, не перебросить мостик к Пушкину. Здесь требуется иного сорта характер, пусть и погрязший в массе, а всё же высовывающийся в историю как претендент на высший пост, пускай без прав, пускай позорным клеймом отмеченный пройдоха, а всё ж король (король-то голый!), тщеславный, громкий, из толпы в поэты метящий, похлеще Онегина, здесь нужен — Хлестаков! Находка Гоголя, но образ подсказан Пушкиным, подарен со всей идеей «Ревизора». Не зря он «с Пушкиным на дружеской ноге»; как тот толпится и французит; как Пушкин — юрок и болтлив, развязен, пуст, универсален, чистосердечен: врёт и верит, по слову Гоголя — « бесцельно ».
Ну чем не Пушкин? — «Представляет себя частным лицом», а сам — «инкогнито проклятое», «с секретным предписанием», «в партикулярном платье, ходит этак по комнате, и в лице этакое рассуждение…»
«Не генерал, а не уступит генералу», «— А один раз меня приняли даже за главнокомандующего: солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем». «…Когда же гуляет в обыкновенном виде, в шинели, то уж непременно одна пола на плече, а другая тянется по земле. Это он называл: по-генеральски» (В. Яковлев. Отзывы о Пушкине с юга России. Одесса, 1887).
А сколь оборотлив! То Анна Андреевна, то Марья Антоновна. «— Так вы в неё?..» «— Для любви нет различия».
Конечно, не поэт. Хотя: «— Я, признаюсь, сам люблю иногда заумствоваться: иной раз прозой, а в другой и стишки выкинутся… У меня лёгкость необыкновенная в мыслях».
Но шутки в сторону. Налицо глубокое, далеко идущее сходство. Как это ни странно выглядит, но если не ездить в Африку, не удаляться в историю, а искать прототипы Пушкину поблизости, в современной ему среде, то лучшей кандидатурой окажется Хлестаков. Человеческое alter ego поэта.
Самозванец! А кто такой поэт, если не самозванец? Царь?? Самозванный царь. Сам назвался: «Ты царь: живи один…» С каких это пор цари живут в одиночку? Самозванцы — всегда в одиночку. Даже когда в почёте, на троне. Потому что сами, на собственный страх и риск, назвались, и сами же знают, о чём никто не должен догадываться: что (переходя на шёпот) никакие они не цари, а это так, к слову пришлось, и что (ещё тише) сперва будет царь, а потом — казнь.
Знал, что дарить Гоголю. Лжедимитрий — Пугачёв — Хлестаков. Но если взглянуть повнимательней, самозванцы у Пушкина — в любом звании. Погода, что ли, такая настала, только у него персонажи тронулись с мест и бросились кто куда, лишь бы не в свои сани. Барышня — в крестьянки, улан — в кухарки, Алеко — в цыганы, Дубровский — в бандиты, беглый чернец — на царский престол. «Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств: детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством!»
Самое золотое для поэтов времечко. Они тоже подались вслед за Хлестаковым — в Пушкины, в Гоголи. Никого не удержишь. Сам себе — царь. Начались неприятности. Все люди — как люди, и вдруг — поэт. Кто позволил? Откуда взялся? Сам. Ха-ха. Сам?!
Пушкин больнее других почувствовал самозванца. Кто ещё до таких степеней поднимал поэта, так отчаянно играл в эту участь, проникался её духом и вкусом? Правда, поэт у него всегда свыше, милостью Божьей, не просто «я — царь», а помазанник. Так ведь и у самозванцев, тем более у пушкинских самозванцев, было сознание свыше им выпавшей карты, предназначенного туза. Не просто объявили себя, а поверили, что должны объявиться. Врут — и верят. «Тень Грозного меня усыновила!..»
Смотрите-ка: Пушкина точно так же усыновила тень Петра! Дедушка-крестник? Знаем мы этих крестников!.. Ведь точно такой же трюк выкинул Пугачёв. Ещё не замышляя никаких мятежей, а много раньше, ради красного словца, и Пушкин, очевидно, не знал этой интересной детали. Не знал, но повторил — в своей биографии.
Ещё на действительной службе Пугачёву как-то случилось напиться, и спьяну он хвастал саблей (хорошее оружие давали за какие-нибудь заслуги).
«А как он ещё заслуг никаких тогда не зделал, а отличным быть всегда хотелось, то сказал: сабля ему пожалована, потому что он крестник государя Петра. Сие сказано, заклинается злодей, ни от каких иных намерений, кроме, чтоб тем произвесть в себе отличность от других. Слух сей пронёся между казаков и дошёл до полковника Ефима Кутейникова, но, однакож, не поставили ему сие слово в преступление, а только смеялись» (Протокол допроса 2–6 октября 1774 г. в Симбирске) [13] Здесь и ниже сохранена орфография первоисточника.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
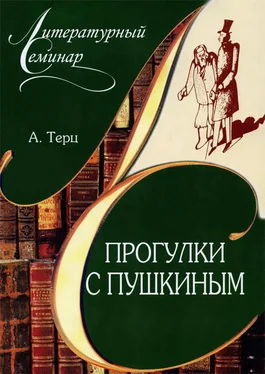

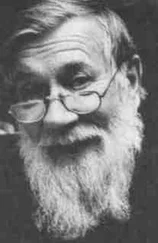
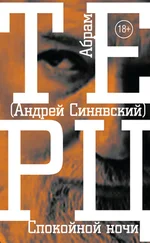
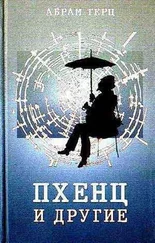
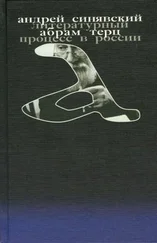
![Андрей Зализняк - Прогулки по Европе [litres]](/books/430207/andrej-zaliznyak-progulki-po-evrope-litres-thumb.webp)