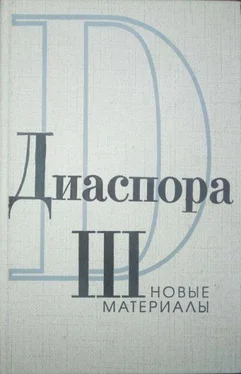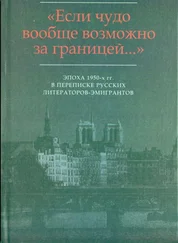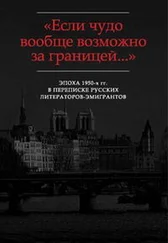Имеется в виду рассказ Гиппиус «Мемуары Мартынова. IV. Ты-ты» (Зв. 1927. № 225, 27 мая. С. 7–9), где находим такие слова: «Пришлось беганье заменить велосипедом, а потом я взял маленький Рено и ездил один, порой как бешеный, просто чтобы метаться. Жил в ментонском Паласе, но, можно сказать, жил везде: и в Ницце, и в Монте-Карло, и в Каннах. <���…> Хотелось быть сразу во всех местах: и в Каннах, и в Ментоне, и в Ницце» (С.7). Сен-Рафаэль в тексте не упоминается.
О ком идет речь, неизвестно. В ответном письме Гиппиус говорила: «А “путешествие”… с французом нашим случилось несчастие: он — женился! Вы сами понимаете, что это такое. У нас есть еще прошлогодний “мусорщик”, но сейчас он занят» (Пахмусс. С.353).
В ответ на этот рассказ Гиппиус 24 июля ответила Адамовичу длинным рассуждением:
Теперь хочу сделать к вам одну поправку, раз навсегда, ибо я уже давно заметила одно смешение, которое вы делаете не замечая. Это будет рассуждение о рассуждении, но и для практики оно немаловажно.
Я не в том уверена, что «болезнь — вина», как говорит это какой- то философ; во всяком случае, говорил он про вину в другом смысле, — в каком только и можно сказать. То есть вина — грех. Грех — «tare»… <���убыль — {франц.)> и т. д., вы понимаете, если стали в эту плоскость. Можно стыдиться греха и даже считать его унизительным, но ведь это все в другом порядке; то же, о чем вы говорите (недаром соединили тут с молитвой), называется целомудрием и вытекает из тонкого — непременно тонкого! — ощущения праведной человеческой самости. Слово «целомудрие» — очень хорошее слово, необыкновенно широкое и, при широте, не теряющее своей глубины. Оно распространяется на любовь, решительно на всякую, на материнскую, на какую угодно (и на молитву, еще бы!). Я отлично понимаю, что вы возмутились простодушным: «Подожди, я Богу молюсь», но, может быть, вы поймете и такой случай: я влюбилась однажды в прекрасную даму с черной бархаткой на шее; было мне тогда пять лет; а когда она вдруг (при всех!) спросила меня: «Зиночка, а так ты меня любишь?» — я предпочла сказать ей: «Нет! тьфу! дрянь!» (чтоб крепче было!). И наказанье за «скандал» приняла гордо, как пострадавшая за правду. <���…> Это комическая мелочь, капелька, но и в ней отражено то же «целомудрие». Оно может переплетаться кое- где с «самолюбием», но никогда с ним не сливается. Я нахожу женщин, в большинстве, грубыми именно потому, что они реже обладают этим целомудрием, а когда и обладают — его не понимают. Предлагаю вам им не подражать, не смешивать понятий и твердо знать, о чем вы говорите, когда об этом говорите. Ведь нужно еще и тут соблюдать меру, а как ее находить, не понимая, в чем?
(Пахмусс. С. 352–353).
Адамович по памяти приводит слова Елены Андреевны из второго действия «Дяди Вани». У Чехова: «Мир погибает не от разбойников, не от пожаров, а от ненависти, вражды, от всех этих мелких дрязг…».
Ответ на высказанное Гиппиус в письме от 19 июля мнение: «третье — о чем я и писала: тон всеобщей “рецензентности” в ежемесячном журнале должен бы измениться — в сторону все-таки тона “статейности” Это оттенок неуловимый — если не хотеть его уловить или не уметь» (Пахмусс. С.350). Отметим, что и сам Адамович был не удовлетворен состоянием дел в «Звене». См. его рассуждения в письме к М.Л.Кантору от начала августа 1927 (Письма в «Звено». С. 157).
Опять полемика с тем же письмом Гиппиус, где говорилось: «Помимо моих исключительных личных несимпатий к а lа Аполлон и а lа Весы (что вы сурнуазно <���от soumois (франц.) — скрытно.)> подчеркиваете), есть ведь и объективная непреложность времени или времен. <���…> Это первое возражение. Второе — и все-таки дело не в бумаге. Весы были остро-полемичны, резки и широки, — терпимы к “товарищу Герману”, вашему покорному слуге, который и тогда не оставался липнуть в сахарной воде “искусства” когда ему этого не хотелось» (Пахмусс. С. 349–350). Упоминаемый в обоих письмах «Товарищ Герман» — псевдоним, использованный в полемических целях сперва Гиппиус («Золотое руно» // Весы. 1906. № 2), а затем В.Я. Брюсовым («Золотому руну»//Весы. 1906. № 5).
О М.Л.Слониме см. примеч. 118. Ср. также в письме Адамовича к М.Л.Кантору от начала августа 1927: «Это приятно, что они <���«Новый дом»> выходят, — будет с кем “полемизировать”, а то со Слонимом, право, тошно» (Письма в «Звено». С. 157). И действительно, в годы сотрудничества в «Звене» Адамович совершенно игнорировал мнения Слонима.
Читать дальше