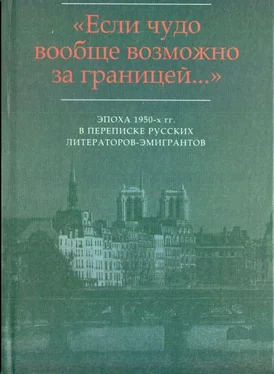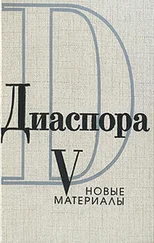Кстати, стихи на смерть Полякова [165]стал писать Г<���еоргий> Владимировичу и я у него украла тему и даже «концентрированный зной» и в тартарары [166]. Впрочем, и в этом «Дневнике» много моих строк. И я (только совсем между нами) иногда переделываю, отделываю и заканчиваю. Он же этим не занимается, а иногда дарит какой-нибудь огрызок на разживу. И я с благодарностью беру. Такая уж у нас общая кухня. Но для него я пишу совсем иначе, чем для меня.
Все это о стихах, как подготовка к главному. Я написала стихи, которые хочу Вам посвятить. Но только если это для Вас подходит. Вот они. Г<���еоргий> В<���ладимирович>, как Вы знаете, стал перечитывать В<���аши> статьи и читал мне о Хлебникове вслух. Меня и Ваша статья [167], и цитаты из Хлебникова «пронзили». Результатом чего и посвящение Вам:
Отравлен воздух, горек хлеб,
Мир нереален и нелеп,
Но жизнь все слаще, все нежнее.
…О Дон Кихоте, об Альдонце,
Той, что казалась Дульцинеей.
Заходит кухонное солнце
На фитиле жестяной лампы,
В кастрюльке булькает картофель,
Ни занавеса нет, ни рампы.
И Хлебникова светлый профиль
В венце и с венчиком на лбу
В пурпурном ящике-гробу.
Приветствую твою судьбу,
«Земного шара председатель»,
Приветствую в тебе Творца!
Я твой читатель — почитатель (ница).
Как «дева ветреных забав»,
В себя дыхание забрав,
До локтя закатав рукав,
Я ложкой по столу стучу,
Понять — постичь тебя хочу, —
Твои пиррихии, спондеи, —
Заумный твой язык учу!
…Не до Альдонцы-Дульцинеи… [168]
Если Вам действительно они нравятся — но только совсем честно, до конца нравятся — я их Вам с радостью посвящаю. Если же Вас хоть что-нибудь коробит или царапает, то, конечно, не посвящу, и без всякой обиды, дружески не посвящу. Отвечайте честно.
От Струве, к удивлению, прибыл «Лебединый стан» [169]с сухой надписью от издателя. (Стихи меня, к сожалению, не совсем восхитили, за небольшим исключением. Я ждала большего.) Все-таки — ветка мира, хотя и закамуфлированная. Как Вам кажется? Я была бы очень рада, если это так. К Струве, хоть он меня и презирает, я питаю симпатию через Гумилева, и вообще мне кажется, что в нем что-то милое. Г<���еоргий> В<���ладимирович> его вежливо поблагодарил и добавил, что Цветаева действительно родилась в 1894 году [170]. Впрочем, Струве наверно скажет: наверно, Георгий Иванов, как всегда, врет [171].
Я стала Вам писать в убийственно-самоубийственном настроении, а сейчас, поверите ли, чувствую, что улыбаюсь. Спасибо Вам за эту улыбку, правда, мимолетную. Вот опять уже «настает мой тихий ад в стройности первоначальной» [172]со всеми волнениями, заботами и бессилием помочь Жоржу.
До свидания. Пишите нам обоим не откладывая. Нет, лучше ему.
Кланяюсь всем Вашим низко. Всего-всего хорошего Вам всем.
Ваша И. О.
<���На полях:> Г<���еоргий> В<���ладимирович> Вас обнимает и просит писать побольше и подробнее, несмотря на усталость.
Beau-Sejour Hyeres 21 апреля <1958 г.>
Дорогой Владимир Федрович,
Как видите, отвечаю Вам без промедления, в тот же час — за Г<���еоргия> Владимировичах Сам он так слаб, что писать не может. Спасибо Вам большое. Ваша мысль нам обоим кажется превосходной. Конечно, Вы как никто сумеете кликнуть клич — в этом мы убеждены.
Кстати, Е.П. Грот уже — от доброй души — узнав о горестном положении Г<���еоргия> В<���ладимировича> — обратилась к Струве (?) с просьбой устроить сбор, он, конечно, отказался [173]. Но она так же необдуманно обратилась и к Вейнбауму и Лит<���ературному> фонду [174]. Я, поблагодарив ее, попросила вежливо «воздержаться», т. к. такие ее выступления могут только повредить. Жаль, если она обидится, но ведь нельзя в таком деле глупить.
Вас Г<���еоргий> В<���ладимирович> с удовольствием и благодарностью уполномачивает заняться организацией помощи ему — и разрешает!
Конечно, надо это сделать как можно эффектнее и громогласнее, чтобы прошибить сердца и кошельки читателей. Если просто сообщить, что поэт Георгий Иванов болен и нуждается, — ничего не выйдет. Надо обратиться «к совести эмиграции» — как-никак Георгий Иванов последний из русских дореволюционных поэтов, и грех дать ему так бесславно — и преждевременно, ведь ему только 63 года — умереть.
А эмиграция уже имеет на своей душе грех гибели Марины Цветаевой, да и Ходасевича тоже никто, когда еще можно было, не поддержал.
Читать дальше