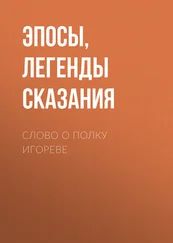Такова его точка зрения. Но не он управляет государством, а потому ему чрезвычайно важно показать, что думают о том же самом князья и бояре.
Любое толкование сна строится, как известно, на соотнесении того, что приснилось, с реальной действительностью, а процесс истолкования, включая предсказание, на анализе иносказательного, «сновиденческого» языка. Сон можно считать одной из систем иносказания, которая, следовательно, имеет историческую и национальную специфику.
Осмысление последствий разгрома войск Игоря начинается на княжеском уровне с тёмного сна Святослава, который он видел «в Киеве, на горах».
Текстологически во «Сне» достаточно не прояснена заключительная часть — от слов «…всю нощь» и заканчивая словами «…къ синему морю». Это затрудняет анализ идейно–образного смысла концовки «Сна». Остальной текст вразумителен, что, конечно, и тут не исключает расхождений в его толковании.
Поэт, разумеется, понимал, что истолкование сна неразрывно увязывается с жизнью того, кто его видел. Вещий сон поднимает авторитет Святослава, а Поэт был убеждённым сторонником укрепления киевского «стола» и его общерусского престижа. Той же цели подчиняется и выбор Киева местом сновидения, и подчёркивание его высокого положения («на горах»). С горы далеко видно — этот смысл акцентируется постановкой слов «на горах» в подударное положение, их выносом в конец стиха.
Композиционно сон Святослава вводится в текст, когда читатель уже втянулся в размышления о будущей судьбе Руси и, следовательно, накопил энергию отгадать сон.
Где видел сон Святослав, — сказано: «В Киеве, на горах». Сказано недостаточно конкретно, так как «на горах» —понятие широкое и может быть истолковано по–разному. Время сновидения определено лишь как время суток — не названо ни календарное, ни даже время года. И все же некоторое, весьма существенное уточнение времени и места сновидения представляется возможным.
Во «Сне Святослава» рассказано о трёх видениях (картинах), которые мы рассмотрим в той последовательности, в какой они идут в «Слове». Сразу же оговоримся: порядок словесного изложения сна не совпадает и не соотносится нами с чередованием отдельных видений (картин) сна, и потому одно необходимо чётко отграничивать от другого.
Во «Сне» есть примечательный повтор, в котором, думается, и скрыт ключ от искомой тайны пространственно–временного соотношения всех трёх видений между собою, а сновидения в целом — с действительным историческим временем и с его философским осмыслением Поэтом. Первая строфа начинается так: «Си ночь, съ вечера…» (Этой ночью, с вечера) — и далее рассказывается о том, что делали некие загадочно–неясные субъекты лично со Святославом. Последняя строфа начинается почти с тех же слов: «Всю нощь, съ вечера…» (Всю ночь, с вечера) — и затем говорится о том, что происходило вне княжеского терема и, по видимости, без связи лично с князем.
Из сопоставления обоих определений времени можно сделать несколько важных предварительных выводов. Очевидно, что Святослав рассказывал боярам о сновидении на следующий же день: иначе он не употребил бы выражения «этой ночью». Ясно также, что сон, начавшись вечером, длился «всю ночь» и что время событий, о которых идёт речь во «Сне», в самом общем, иносказательном выражении называется «Вечер, перешедший в ночь». В таких словах содержится оценка времени как очень неблагоприятного для всего, к чему оно имеет отношение. В обоих определениях времени полностью совпадают определения его начала («с вечера») и почти совпадают определения его развития и продолжения («этой ночью» и «всю ночь»). Отсюда следует, что «одевание князя черным покрывалом» и «злорадное карканье серых ворон» начались од–повременно и параллельно (с вечера), что затем эти и последующие действия сопутствовали одно другому либо часть ночи, либо всю ночь. Равно вероятны оба варианта их продолжения, а, значит, для Поэта в данном случае не было смысла совершенно точно определять окончание того и другого ряда действий. Выражение «всю ночь», бесспорно, означает «до конца ночи», с которым вполне, несомненно, соотносится только одно действие «Сна» и одно событие реальной действительности: «… и унеслись (вороны) к синему морю». Еще одно завершающее действие (из первой строфы) и ещё одно событие, возможно, совпали с концом ночи, а возможно, прекратились несколько ранее — они выражены словами «и убаюкивали меня».
Читать дальше

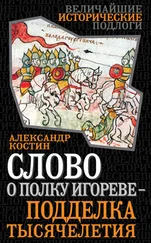


![Игорь Сухих - От «Слова о полку Игореве» до Лермонтова [litres]](/books/430444/igor-suhih-ot-slova-o-polku-igoreve-do-lermonto-thumb.webp)