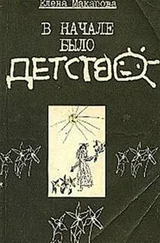Потом бульвар разворотили бульдозерами, Тургеневская читальня рухнула, как карточный домик. Старый библиотекарь умер. Маэстро перебрался ближе к метро «Проспект Мира». Последнее, что я лепила, — рельеф к новому зданию МХАТа, маски. Когда рельеф был готов, власти приняли решение его заморозить, сделать что-нибудь попроще.
Маэстро уехал. Я вышла замуж и родила детей: есть общие структуры, в них надо себя уместить — волочить по сугробам коляску с младенцем, потея, как лошадь, от усилий и набухания молока в груди. Многие тогда уехали. Остатки перегруппировались. Те, кто бросился в открытую схватку с режимом, оказались в лагерях. Те, кто уехал, писали письма тем, кто остался, мы читали их вслух. Иногда сквозь глушилку доносились до нас знакомые голоса. Иностранцы привозили нам книги наших друзей, которые мы знали в рукописях. Мы критиковали то, что наши писатели написали уже там; только гениям доступно сохранить живой язык боли, когда пишешь на чужбине.
Умер Сидур, так о нем услышали, узнали, что он был. И я вспомнила, как приходила к нему в полузатопленную мастерскую, как он подарил мне свой рисунок — портрет Солженицына и как все по-разному относились к тому, что портрет висел у нас дома на стене во все времена.
Сидур — я тогда ничего не поняла про него, так же как и про Мераба Мамардашвили. В ту пору, когда Маэстро неукротимой своей энергией выворачивал плоть наизнанку, Сидур работал пластическими стилизованными формами, мне недоставало в них утробной энергии Маэстро. Все у меня было «или — или», ничего между. Пристрастия юности, ее безапелляционность: «Вы любите Катулла? Не любите — тогда убирайтесь!» Или бешеная энергия деформированного пространства, или скрытая, сдерживаемая классической поверхностью, энергия античных статуй, сравнимая разве что с поверхностным натяжением капли. Казалось, стоит ножом полоснуть ногу Артемиды — и статуя разверзнется, спрессованная в мрамор форма лопнет и обнажит кровавые мышцы и пучки сухожилий. Между вывернутым наизнанку деформированным пространством и ложным спокойствием античных статуй зияла бездна. В ней жил и умер скульптор Сидур. В ней жил и умер Мамардашвили. Мераб не состыковался с историческим временем и обещал родиться еще раз. За несколько часов до смерти он дал это обещание своим приятелям.
В то время, когда писался этот рассказ, я мало что помнила. Израиль на первых порах отшиб всякую память. Теперь, начитавшись Мераба, я отчетливо вижу его, расхаживающего между кручеными бронзовыми отливками и доказывающего Эрнсту, что бытие круглое. Чтобы не переврать его слов, воспользуюсь записью.
«Круг есть образ движущейся неподвижности. Нет ни одной точки, из которой я целиком мог бы увидеть дом. Нет такой точки. Не может так случиться, чтобы мы оказались в таком месте, из которого хоть однажды, хоть на секунду мы увидели бы дом со всех сторон.
Возьми любой предмет, куб например: нет такой точки, с которой сразу видны все стороны куба, и тем не менее мы видим куб. Мы несомненно видим дом и мы несомненно видим куб. Потому что они суть бытие, потому что бытие — это особая вещь, это то, что мы мыслим.
Бытие и мысль тождественны. Это предмет в целом. То, что у греков, да и в философии по сегодняшний день, называется бытием.
Есть действительное бытие, отличное от мнений и человеческих представлений, — говорили греки, и я повторяю это вслед за ними. Всякое явление есть видение невидимого, или видимое есть явление невидимого.
Невидимое мы видим через видимое…»
Мераб оттачивал на Эрнсте свое красноречие, и тот согласно кивал. Его скульптуры — это и есть реальное подтверждение того, как невидимое становится видным через видимое.
— Но скажи мне, Мерабушка, как же мы оказались в таком дерьме?
— Небытие, — отвечал философ. — Небытие — это когда вещи, из которых не извлечен смысл, повторяются в дурной бесконечности. Нет осмысления — нет перехода в другую структуру сознания. Это то, что греки называли небытием или беспредельным. И гнусности, повторяясь и интегрируясь, соединяясь вместе, обрушиваются на твою голову в самый неподходящий момент. Уроки Первой мировой войны не были осмысленны — случилась Вторая. Ленинская революция не была осмыслена — явился Сталин. Небытие. Беспредел.

Мастерская прослушивалась, за Эрнстом ходили стукачи, но ради существования в бытии он готов был разделить судьбу Солженицына. Пусть сошлют.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу