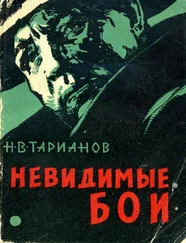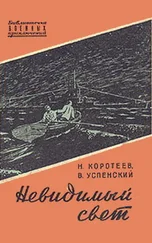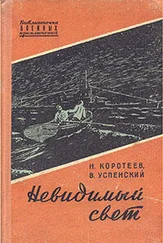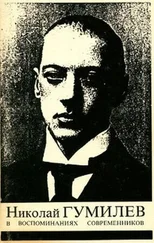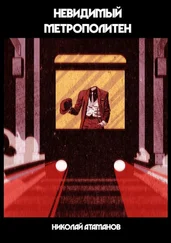Эти факты приводили к мысли о том, что раз переход первичных повреждений в наблюдаемую форму происходит при образовании новых хромосом, значит именно дочерние структуры и являются носителями наблюдаемых изменений. Так родилась матричная гипотеза хромосомных мутаций. Первичное повреждение состоит, согласно этой гипотезе, в подавлении или изменении аутокаталитических (матричных) свойств облученной хромосомы. В результате дочерние хромосомы строятся ненормально, с ошибками. Если же ко времени образования новых структур повреждение восстановится, то синтез произойдет нормально и никаких изменений мы не заметим.
Перечисленные гипотезы родились в конце 50-х — начале 60-х годов. Однако, как выяснилось через некоторое время, весьма похожие взгляды высказывались и гораздо раньше. Еще в конце 30-х годов немецкий цитолог Бауер подробно обсуждал гипотезы, совершенно подобные тем, которые теперь имеют хождение под названиями гипотезы потенциальных разломов и обменной гипотезы, а выдающийся русский биолог, академик Николай Константинович Кольцов тогда же высказывал соображения, очень близкие к нынешней матричной гипотезе. В том, что об этих работах забыли почти на тридцать лет, нет ничего удивительного: в них просто не было надобности. А когда появились факты, противоречившие фрагментационной гипотезе, их пришлось выдвинуть заново, а потом вспомнить и о старых работах. Итак, три гипотезы… Какая же верна? На этот вопрос я не смогу ответить, потому что как раз теперь в радиобиологии на повестке дня стоит решение этого вопроса. Можно только сказать, что гипотеза потенциальных разломов меньше соответствует фактам, чем две другие. Что же касается обменной и матричной гипотез, то они друг другу не противоречат. Скорее они — две стороны одной и той же медали. Обменная гипотеза говорит о связи между фрагментами и обменами, но совершенно не затрагивает вопроса о природе первичных изменений, который стоит в центре внимания матричной.
Вряд ли может быть случайным сходство выводов, к которым пришли ученые, исследуя молекулярные изменения ДНК и хромосомные мутации. Одиночные разрывы могут проявиться только во время удвоения молекул ДНК, которое предшествует делению клетки и приходится как раз на то самое время, когда, согласно матричной гипотезе, скрытые первичные изменения переходят в мутации.
Молекулярные механизмы образования мутаций и восстановления клеток от скрытых повреждений только сейчас проясняются, но уже можно смело делать два утверждения: образование мутаций не мгновенный акт, а процесс, идущий во времени; переход первичных повреждений в наблюдаемые изменения — результат нормальных процессов клеточного цикла, проходящих с участием поврежденных хромосом. Отсюда ясно, что облучение создает лишь предпосылку для возникновения мутации. Значит, можно рассчитывать на уменьшение лучевого поражения с помощью воздействий, применяемых после облучения, иными словами — «исправлять ошибки», в то время, пока они еще не реализовались в необратимые нарушения.
Биологический усилитель
Вот теперь-то мы можем, наконец, ответить на оба основных вопроса радиобиологии:
Почему ионизирующие лучи при дозах, оставляющих в облучаемых объектах совершенно ничтожную энергию, приводят к столь большим последствиям?
Почему разные клетки, разные органы, разные виды живых организмов так сильно отличаются по чувствительности к ионизирующей радиации?
Мы уже знаем, что при облучении живых организмов особенно важную роль играет повреждение генетического аппарата клетки. Ну и что? Ген — большая молекула. С точки зрения химика она ничем не хуже любой другой большой молекулы. И у нас нет никаких оснований думать, что радиация будет действовать на генные молекулы как-нибудь иначе, чем на любые другие молекулы таких же размеров. И о том же самом говорят результаты опытов. А раз так, значит, чтобы с более или менее реальной вероятностью попасть в какой-нибудь определенный ген, нужна доза порядка миллиона рентген. И действительно, попытка вызвать с помощью облучения какое-нибудь вполне определенное наследственное изменение — задача совершенно нереальная, если не использовать методов постановки опытов, при которых можно анализировать сотни тысяч или миллионы особей. На дрозофиле и то ставить такие опыты тяжело.
Но все дело в совершенно особом месте, которое занимают гены в клетках и в организмах. В нормальных клетках содержится по два экземпляра генов каждого сорта, а в зародышевых — по одному. В хромосомном наборе тысячи генов, но все они разные: один отвечает за одни свойства организма, другой — за другие. Если разрушить одну молекулу какого-нибудь фермента, совершенно необходимого для жизни клетки, она этого и не почувствует, потому что сохранились сотни или тысячи точно таких же молекул. А повредить один ген из двух — это уже существенно. Если оторвать одну ножку у сороконожки, она будет бегать с той же скоростью, что и раньше, но если прострелить одно крыло орлу, он рухнет наземь.
Читать дальше