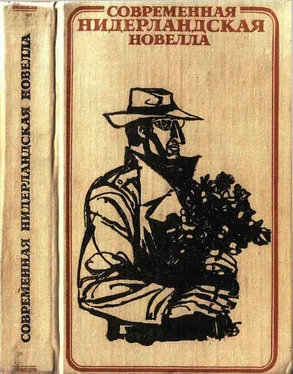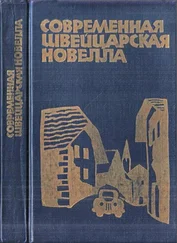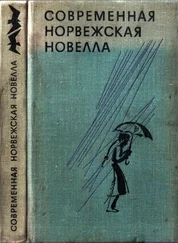Под ними, в недрах скалы, располагались жилые помещения для офицеров и рядового состава, пакгаузы, штабные канцелярии и радиоузел. А глубже всего, в самом нутре голой скалы, торчащей посреди пустынного океана, находился электронный мозг, который снабжал базу всеми метеорологическими и стратегическими данными.
Там, внутри, Бернард Броуз стоял перед письменным столом адмирала и смотрел на его седые, косо зачесанные на черепе волосы. Адмирал проглядел две-три сколотые страницы машинописного текста. Поднял глаза.
— Это приказ, — сказал он. — Мы не можем позволить себе ни малейшего риска. Нам нужна полная уверенность. Ты ведь понимаешь всю важность задания: на борту — сама Зверюга. Со всей своей кликой.
Броуз стоял по стойке «смирно», и его медленно клонило вперед, так что ему пришлось прижать носки к полу, чтобы удержаться на мосте. На мгновение ему показалось, что сохранять равновесие на двух ногах не легче, чем ходить по канату, и он удивился, как человек справляется с этим всю жизнь.
Адмирал поднял бровь, так что монокль упал в его раскрытую ладонь, лежавшую на столе. Он заговорил уже другим тоном:
— Ты положишь конец войне, Броуз. К настоящему времени война только на нашей стороне унесла сорок миллионов жизней. Три четверти наших городов лежит в развалинах — там, далеко за горизонтом. Твой родной город навечно стерт с лица земли. Твои отец и мать погибли при бомбежке. Твой брат пал на Северном фронте; его труп вмерз в айсберг и дрейфует где-то у полюса. Одна из двух твоих сестер убита, другая умерла от тифа. Твоя жена находилась в поезде, который попал под обстрел по дороге из одной груды развалин в другую.
Адмирал — он время от времени заглядывал в машинописный текст — повертел в пальцах монокль и снова изменил тон.
— Ценой одной твоей жизни ты спасешь по меньшей мере сорок миллионов жизней только на нашей стороне. Ты останешься в памяти людской как один из величайших героев в истории человечества. Нет, не как герой. — Он шевельнул растопыренными пальцами. — Это что-то другое… что-то более захватывающее и грозное… не могу найти слово.
Адмирал ощупал взглядом пространство позади Броуза, потом встал и вышел из-за стола.
— Я завидую тебе, Броуз, — сказал он и направился к двери; поравнявшись с Броузом, он мимоходом положил руку ему на плечо.
Броуз, по-прежнему в стойке «смирно», сделал поворот в его сторону. Адмирал взялся за ручку двери.
— Я не хочу рисковать, — сказал он. — Если бы я спросил добровольцев, ты бы вызвался?
Броуз посмотрел на него и задумался. Но ответ пришел сразу.
— Да, господин адмирал.
— Но я не спрашивал добровольцев.
— Нет, господин адмирал.
— Это приказ.
— Да, господин адмирал.
Адмирал открыл дверь и протянул ему руку.
— Мы еще увидимся, Броуз. Произвожу тебя в чин младшего лейтенанта.
Броуз щелкнул каблуками и пожал руку адмирала. Она была прохладная, сухая и приятная на ощупь. Вдруг он нерешительно произнес:
— Так это приказ, господин адмирал?
— Да, приказ.
Броуз почувствовал, как адмирал удержал его руку в своей.
— Когда это должно произойти, господин адмирал?
— Послезавтра. Завтра ты сможешь изучить и опробовать машину. Она предельно проста в обращении. Она только что прибыла. Сейчас ее выгружают. — Не выпуская руки Броуза, адмирал посмотрел на часы и сказал: — Вот в это самое мгновение Зверюга поднимается на борт.
«У-253», посланная родиной, лежала у платформы, словно огромное животное, на теле которого кишат паразиты. Вдали простирался недвижный океан, сейчас, на закате, он отливал розовым. Под сводами пещеры раздался пронзительный свисток — он означал, что снаружи начинает смеркаться и через десять минут надо погасить все огни, кроме ряда слабых ламп, замаскированных со стороны океана. Броуз как бы в оцепенении, прислонясь к скале, наблюдал за суетой разгрузки. Крылатую машину уже выгрузили на сушу и на дрезине повезли в мастерские. Она походила скорее на самолетик, чем на подводную лодку. Никто не знает, что она предназначена для меня, подумал Броуз. Вся эта суматоха ради меня. Послезавтра в это время я буду мертв.
Но это, пожалуй, была даже не мысль: это была затверженная фраза на незнакомом языке. Когда-то отец каждый предновогодний вечер в ожидании двенадцати часов читал им наизусть большие куски из «Одиссеи», по-гречески; он, и брат, и сестры, то смеясь, то затаив дыхание, вслушивались в эти непонятные белые и желтые звуки, которые колечками дыма вылетали из отцовского рта. Стихи производили очень сильное впечатление, но навевали чувство беспредельного одиночества и печали, и он с огромным трудом выучил на память две первые строки поэмы, которые отец записал ему в фонетической транскрипции:
Читать дальше