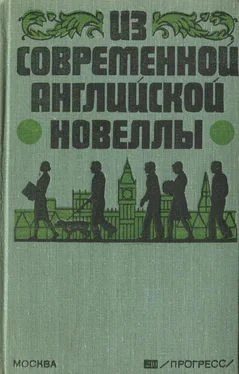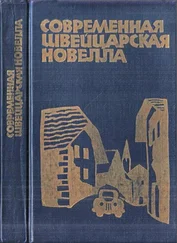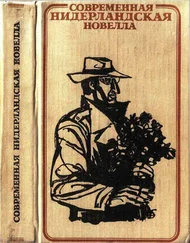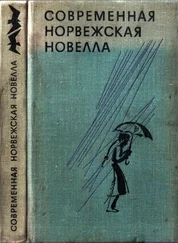— Забыл подготовить развязку.
— А может, стоит оглянуться на главного персонажа? Знаете, в книгах они, бывает, живут своей жизнью.
— И бесследно прячут любые улики?
— Вынуждая автора с этим считаться. Да, вот так он решил сам за себя: исчез, как в воду канул — и оставил автора с носом. И без развязки.
Инспектор усмехнулся.
— Кто же мешает писателю устроить все иначе?
— Вы хотите сказать, что в конце детективного романа все должно разъясняться? Закон жанра?
— Условность.
— Ну а если в нашем романе нарушены литературные условности, может, он просто достовернее? — Она снова закусила губу. — Не говоря уж о том, что случилось-то это на самом деле: значит, так оно и есть.
— Почти упустил из виду.
Она выставила блюдце и стряхнула в него пепел.
— Значит, нашему автору только и остается убедительно разъяснить, почему главный персонаж толкнул его на чудовищное литературное преступление — нарушение законов жанра? Ах, бедняга, — сказала она.
Инспектор чувствовал пропасть между ними: между теми, кто живет идеями, и теми, кто вынужден пробавляться фактами. Почему-то было немного унизительно вот так сидеть и слушать все это; а глазам его представлялась ее нагота, ее нежная нагота — на его постели. На ее постели. На любой или без всякой постели. Соски грудей под легким платьем; такие маленькие руки, такие живые глаза.
— И вы беретесь разъяснить?
— Его жизнь имеет своего автора — в некотором смысле. Не человека, нет — систему, мировоззрение. Он был нацело задуман, был сделан книжным персонажем.
— Так, ну и…
— Безукоризненно правильным. Который всегда говорит то, что надо, надевает то, что следует, отвечает нужным представлениям. Правильным с большой буквы. Роль за ролью и все вместе. В Сити. В именье. Тусклый и надежный член парламента. Ни малейшей свободы. Никакого выбора. Все только по указке системы.
— Но это можно сказать про…
— Однако же надо искать в нем чего-то необычного — коли уж он совершил такой необычайный поступок?
Инспектор кивнул. Теперь она избегала его взгляда.
— И вот он это осознает. Наверно, не сразу. Медленно, понемногу. Осознает себя чужим твореньем, вымышленным персонажем. Все распланировано, расчерчено. Он — всего-навсего живая окаменелость. Вряд ли у него изменились взгляды, вряд ли Питер его переубедил или Сити вдруг показалось ему грязненьким игорным притоном для богачей. Наверно, он винил всех и вся подряд — в том, что его сделали манекеном, связали по рукам и ногам.
Она стряхнула в блюдце пепел.
— Вы его альбомы видели?
— Его что?
— В Тетбери, в библиотеке. Все в синем сафьяне, с золотым тиснением: его инициалы, чины, даты. А внутри — газетные вырезки со времен его адвокатуры. Отчеты "Таймс" и тому подобное. Любой пустяк приобщен. Вырезки из местной газетенки о благотворительных базарах и те на своих местах.
— А что, это так необычно?
— Больше похоже на актера. Писатели бывают в этом роде. Навязчивая потребность… в каком-то признании?
— Пожалуй.
— На самом-то деле — от страха. Перед неудачей, перед безвестностью. Только вот писатели и актеры — большинство из них — могут жить будущим, лелеять вечный оптимизм. Новая роль будет ослепительной. Следующая книга будет шедевром. — Она посмотрела ему в глаза взглядом убеждающим и в то же время оценивающим. — Вдобавок и жизнь их нараспашку. Цинизм, грызня. Никто не верит чужой репутации — особенно высокой. Оно даже и здоровее — в некотором смысле. Но он был не таков. Консерваторы принимают успех всерьез, определяют в точности. Никаких скидок. Общественное положение. Статус. Чины. Деньги. А мест наверху маловато. Надо стать премьер-министром, знаменитым юристом, мультимиллионером. Или расписаться в неудаче. Возьмите, — сказала она, — Ивлина Во — ужасный сноб, оголтелый консерватор. Но очень проницательный, невероятно остроумный. И подставьте другого на его место — человека совсем не такого ограниченного, каким он казался, однако без тех отдушин, что были у Во. Ни блистательных книг, ни католицизма, ни остроумия. Опять-таки ни тебе пьянства, ни шалых домашних выходок.
— То есть такого же, как тысячи других?
— Не совсем. Он ведь сделал то, чего тысячи других не делают, — стало быть, ему было нестерпимее других. Обреченный на неудачу, загнанный в западню, да еще вынужденный соблюдать видимость и притворяться счастливцем. Никаких творческих способностей, Питер мне говорил. В суде он тоже был на вторых ролях: узкий специалист, не более. А вкусы его! Как-то признался мне, что он большой любитель исторических биографий, жизнеописаний замечательных людей. Да, и к театру еще был очень неравнодушен. Я все это знаю, потому что больше нам и разговаривать было не о чем. Обожал Уинстона Черчилля, этого толстомясого фанфарона.
Читать дальше