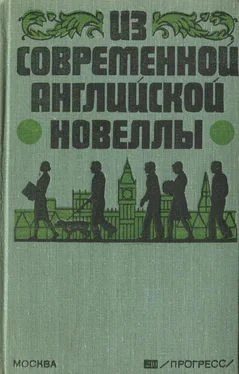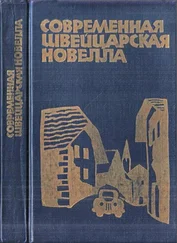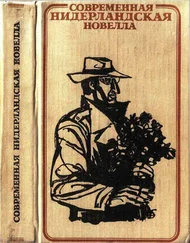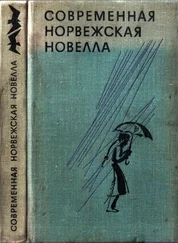— Ваши стекляшки, — сказал он, — в полном порядке. Бренди точно не хотите?
— Нет, благодарю.
— Электрокамин?
— Мне не холодно.
— Ладно. А теперь придется кляп вставить.
Он взялся за ножницы и ленту.
— Но здесь же никого нет. Кричи хоть всю ночь напролет…
Он, кажется, на мгновение заколебался, потом покачал головой.
— Я извиняюсь. Надо, друг.
Он отмотал и отщелкнул от ленты четыре отрезка и выложил на стол. Когда, взяв в руки первый отрезок, он ступил ко мне, я невольно дернулся.
— Это совершенно излишне!
Он немного обождал.
— Ну ладно. Пора закругляться.
Примени он силу, я бы непременно воспротивился. Но он вел себя со мной, как усталая от капризов больного сиделка. Мне осталось только закрыть глаза и повернуть к нему голову. Вот он косо налепил пластырь на мой горестный рот; расправил по щекам; потом и другие отрезки. Снова меня охватил ужас — вдруг я не смогу дышать только носом. Возможно, он тоже этого опасался, потому что пристально разглядывал меня в молчании несколько минут. Потом взял нож и ножницы и пошел на кухню. Я слышал, как он кладет их на место. И вот свет в кухне погас.
О том, что стряслось дальше, я расскажу с предельной сжатостью. Да у меня и нет слов, способных выразить, что я перенес.
Я думал, что теперь он оставит меня одного в моем унылом бдении. Выйдет — и делу конец. Но он вернулся из кухни, присел возле буфета и открыл нижнюю дверцу. И выпрямился с кипой старых газет, которые Джейн держала тут для растопки. Я увидел, недоумевая (я же сказал ему, что мне не холодно), как он встал на корточки у старой печки, поднимавшейся до половины стены рядом со мной. Он комкал бумагу и запихивал в топку. При этом и в продолжение всей последовавшей сцены он ни разу не взглянул на меня. Он вел себя так, словно меня тут и не было.
Когда он поднялся и ушел в гостиную, я уже понял… но не поверил — не мог поверить. Но мне пришлось поверить, когда он вернулся. Увы, я слишком хорошо знал красный переплет толстой тетради, содержавшей мой генеральный план и набросанные от руки ключевые пассажи, и темную коробочку — хранительницу бесценной картотеки ссылок.
Я отчаянно дернулся, я пытался крикнуть сквозь залепленные губы. Какой-то звук я издал, кажется, но он даже не повернул головы.
Это чудовищно, но я вынужден был смотреть, как он сунул в печь плоды четырехлетних неусыпных и невосстановимых трудов, преспокойно нагнулся и поджег зажигалкой газету. Она запылала, и он стал невозмутимо подбрасывать в пламя порции машинописи. Туда же отправились переснятые документы — копии писем, рецензии современников на романы Пикока, которые я так кропотливо выискивал, и прочее. Теперь уже я молчал, я уже не пытался кричать — что толку? Ничто уже не могло остановить грубого и необъяснимого варварства. Когда ты связан по рукам и ногам, и притом буквально, о достоинстве толковать не приходится, и к глазам у меня подступали бессильные слезы; мне оставалось только их сдерживать. Я зажмурился, и снова открыл глаза под треск выдираемых страниц. С тем же невыносимым спокойствием он подбросил их в истребительный огонь. Я уже чувствовал зловещий жар сквозь одежду и кожей лица, то есть незалепленной его частью. Он чуть отступил и теперь не заталкивал, а метал топливо в погребальный костер. Выпорхнула из коробки и погибла моя картотека. Он поднял лежавшую у печи кочергу и подтолкнул обугленные лоскуты в пламя. О, если б я мог схватить эту кочергу! С каким бы наслаждением я раскроил ему череп!
Так и не взглянув на меня, он вышел в гостиную. На сей раз он принес оттуда десять исчирканных мною томов "Собрания сочинений" и старые разборы и биографии Пикока, которые я привез с собой и сложил на столе. Во множестве торчавшие из них закладки назойливо напоминали об их насущной роли. Книги, одну за другой, тоже пожрало пламя. Он терпеливо ворошил их кочергой, если они загорались не сразу. Он заметил даже, что у "Жизни" Ван Дорена отстал корешок, и отодрал его совсем, чтоб не мешался. Я думал, он дождется, пока выгорит дотла последняя страница, последняя строчка. Но, швырнув в костер последний том, он поднялся. Возможно, он убедился, что книги горят куда медленней отдельных листов; или понял, что они все равно истлеют за ночь; или, учинив главное зло, уже не заботился о прочем. С минуту он вдумчиво глядел на огонь. Потом наконец повернулся ко мне. Двинул рукой — я думал, он меня ударит. Но он всего лишь поднес к самому моему лицу — наверное, чтобы я и без "стекляшек" не мог ложно расценить его жест, — желтый кулак с непостижимо задранным большим пальцем. Знак милости там, где милости не было.
Читать дальше