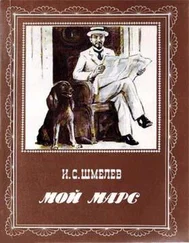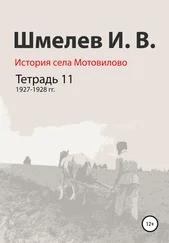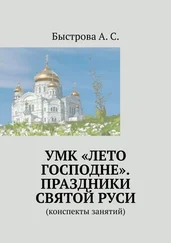Иван Шмелев
Лето Господне
Два чувства дивно близки нам -
В них обретает сердце пищу -
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
А.С. Пушкин
Наталье Николаевне и Ивану Александровичу Ильиным посвяща
Автор
Чистый понедельник
Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой-то свет, холодный, скучный. Да, сегодня Великий Пост. Розовые занавески, с охотниками и утками, уже сняли, когда я спал, и оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас Чистый Понедельник, и все у нас в доме чистят. Серенькая погода, оттепель. Капает за окном – как плачет. Старый наш плотник – “филёнщик” Горкин, сказал вчера, что масленица уйдет – заплачет. Вот и заплакала – кап... кап... кап... Вот она! Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки, назолоченый пряник “масленицы” – игрушки, принесенной вчера из бань: нет ни медведиков, ни горок, – пропала радость. И радостное что-то копошится в сердце: новое все теперь, другое. Теперь уж “душа начнется”, – Горкин вчера рассказывал, – “душу готовить надо”. Говеть, поститься, к Светлому Дню готовиться.
– Косого ко мне позвать! – слышу я крик отца, сердитый.
Отец не уехал по делам: особенный день сегодня, строгий, – редко кричит отец. Случилось что-нибудь важное. Но ведь он же его простил за пьянство, отпустил ему все грехи: вчера был прощеный день. И Василь-Василич простил всех нас, так и сказал в столовой на коленках – “всех прощаю!”. Почему же кричит отец?
Отворяется дверь, входит Горкин с сияющим медным тазом. А, масленицу выкуривать! В тазу горячий кирпич и мятка, и на них поливают уксусом. Старая моя нянька Домнушка ходит за Горкиным и поливает, в тазу шипит, и подымается кислый пар, – священный. Я и теперь его слышу, из дали лет. Священный... – так называет Горкин. Он обходит углы и тихо колышет тазом. И надомной колышет.
– Вставай, милок, не нежься... – ласково говорит он мне, всовывая таз под полог. – Где она у тебя тут, масленица-жирнуха... мы ее выгоним. Пришел Пост – отгрызу у волка хвост. На постный рынок с тобой поедем, Васильевские певчие петь будут – “душе моя, душе моя” – заслушаешься.
Незабвенный, священный запах. Это пахнет Великий Пост. И Горкин совсем особенный, – тоже священный будто. Он еще до свету сходил в баню, попарился, надел все чистое, – чистый сегодня понедельник! – только казакинчик старый: сегодня все самое затрапезное наденут, так “по закону надо”. И грех смеяться, и надо намаслить голову, как Горкин. Он теперь ест без масла, а голову надо, по закону, “для молитвы”. Сияние от него идет, от седенькой бородки, совсем серебряной, от расчесанной головы. Я знаю, что он святой. Такие – угодники бывают. А лицо розовое, как у херувима, от чистоты. Я знаю, что он насушил себе черных сухариков с солью, и весь пост будет с ними пить чай – “за сахар”.
– А почему папаша сердитый... на Василь-Василича так?
– А, грехи... – со вздохом говорит Горкин. – Тяжело тоже переламываться, теперь все строго, пост. Ну, и сердются. А ты держись, про душу думай. Такое время, все равно как последние дни пришли... по закону-то! Читай – “Господи-Владыко живота моего”. Вот и будет весело.
И я принимаюсь читать про себя недавно выученную постную молитву.
В комнатах тихо и пустынно, пахнет священным запахом. В передней, перед красноватой иконой Распятия, очень старой, от покойной прабабушки, которая ходила по старой вере, зажгли постную, голого стекла, лампадку, и теперь она будет негасимо гореть до Пасхи. Когда зажигает отец, – по субботам он сам зажигает все лампадки, – всегда напевает приятно-грустно: “Кресту Твоему поклоняемся, Владыко”, и я напеваю за ним, чудесное:
И свято-е... Воскресе-ние Твое
Сла-а-вим!
Радостное до слез бьется в моей душе и светит, от этих слов. И видится мне, за вереницею дней Поста, – Святое Воскресенье, в светах. Радостная молитвочка! Она ласковым счетом светит в эти грустные дни Поста.
Мне начинает казаться, что теперь прежняя жизнь кончается, и надо готовиться к той жизни, которая будет... где? Где-то, на небесах. Надо очистить душу от всех: грехов, и потому все кругом – другое. И что-то особенное около нас, невидимое и страшное. Горкин мне рассказал, что теперь – “такое, как душа расстается с телом”. Они стерегут, чтобы ухватить душу, а душа трепещет и плачет – “увы мне, окаянная я!” Так и в ифимонах теперь читается.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу