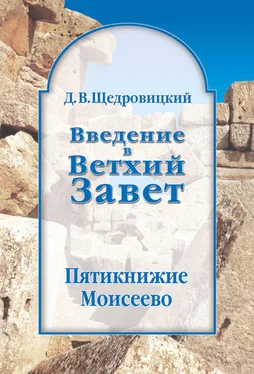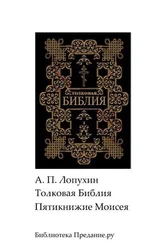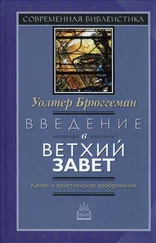Но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицом Господа, Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. (Втор. 29, 14–15)
«Вы» – это души, ныне воплощенные, пребывающие в телах; «те, которые сегодня здесь с нами стоят» – это незримо присутствующие души евреев, которым надлежит родиться в будущем; «те, которых нет здесь с нами сегодня» – это души будущих прозелитов из всех народов мира.
И далее Моисей предупреждает, чтобы никто не уклонился от Господа, став «корнем, произращающим яд и полынь»; чтобы не было в Израиле
…Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря: «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего»; и пропадет таким образом сытый с голодным… (Втор. 29, 19)
Человек отступает от Господа преимущественно для того, чтобы следовать влечениям своей «животной» души. Выражением «и пропадет таким образом сытый с голодным» переведено למען ספות הרוה את־הצמאה <���лема́ан сэфо́т ґа-рава́ эт-ґа-цмеа́> – «дабы утоление прибавлялось к жажде [т. е. чтобы жажда каждый раз утолялась]». Когда человек, стремящийся к утолению страстей путем преступлений, услышит слова проклятия, он захочет «благословить сам себя» (והתברך <���вэ-ґитбарэ́х>; в Синодальном переводе – «похвалялся бы»). Однако такое «самоблагословение» бессильно, в отличие от всесильного благословения Божьего. Отдельного человека, род или целое колено, сознательно, «по дерзости» (а не по слабости или незнанию – ср. Числ. 15, 22–31) отвергших завет Господень, постигнет «все проклятие, написанное в сей книге» (ст. 18–21).
Вновь возвращаясь к теме проклятий, Моисей провидит их воздействие не только на народ, но и на Святую землю: наилучшая по природным условиям и плодородию – «текущая молоком и медом» (Исх. 3, 8), – она, после того, как израильтяне будут изгнаны, станет унылой пустыней:
И скажет последующий род, дети ваши, которые будут после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, увидев поражение земли сей и болезни, которыми изнурит ее Господь:
Сера и соль, пожарище – вся земля; не засевается и не произращает она, и не выходит на ней никакой травы, как по истреблении Содома, Гоморры, Адмы и Севоима, которые ниспроверг Господь во гневе Своем и в ярости Своей. (Втор. 29, 22–23)
Согласно сказанному, «дети ваши», т. е. последующие поколения, находясь в изгнании (ср. Втор. 28, 64–65), будут постоянно сохранять духовную связь со Святой землей, интересоваться ее состоянием, печалиться о ее опустошении и, по возможности, совершать в нее паломничества. Как известно, именно такая связь евреев с землей обетованной существовала во все века изгнания.
Но, кроме «детей», упомянут и «чужеземец» (в собирательном смысле), который «придет из земли дальней». Это пророчество начало исполняться с самых первых времен распространения Христианства среди народов: Палестина – страна земной жизни Христа – стала центром паломничества для множества «чужеземцев». Однако, вместо того чтобы находить в Святой земле образец для подражания, как это могло бы происходить при соблюдении Израилем завета (ср. Втор. 4, 6–7; 28, 10–12; Ис. 2, 3; Иер. 3, 17), пилигримы с сожалением отмечали ее бедственное положение, запустение и одичание.
Кара, ожидающая страну за грехи ее жителей, сравнивается с наказанием Содома и других городов, совершенно уничтоженных Господом (Быт. 19, 24–28). И только по великой Его милости народ Израиля и Святая земля не разделили участь этих «ниспровергнутых» (Быт. 19, 25) городов:
Земля ваша опустошена; города ваши сожжены огнем; поля ваши в ваших глазах съедают чужие; все опустело, как после разорения чужими.
И осталась дщерь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город.
Если бы Господь воинств не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. (Ис. 1, 7–9)
Однако уже то, что земля совершенно оскудела; что она лишилась своей некогда обильной растительности, в том числе густых лесов; что большая часть ее обратилась в пустыни или болота, – все это явилось исполнением грозного Моисеева пророчества.
Вот как обрисовал положение на Святой земле американский писатель Марк Твен (один из «чужеземцев, пришедших из земли дальней» – Втор. 29, 22), посетивший Палестину в середине 60-х годов XIX в.:
Палестину по праву можно считать царицей среди земель, одним своим видом наводящих уныние. Горы ее бесплодны и некрасивы, их краски тусклы. Долины – это неприглядные пустыни с чахлой растительностью, от которой так и веет тоской и убожеством. Мертвое море и море Галилейское сонно цепенеют среди пустынных гор и равнин, где не на чем отдохнуть глазу, – здесь нет ничего яркого или поражающего, нет ласковых пейзажей, дремлющих в лиловой дымке или испещренных тенями проплывающих в небе облаков. Все очертания резки, все линии четки; здесь нет перспективы – в отдалении все так же лишено очарования, как и вблизи. Безрадостная, угрюмая и скорбная земля.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу