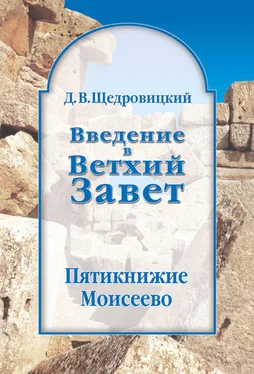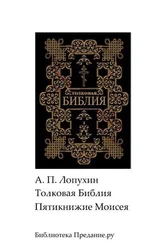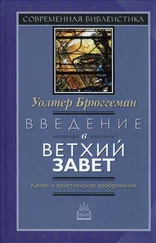Второе государство, о котором говорит Валаам, – это «четвертая часть Израиля». Только четвертая часть народа, а именно – жители Иудейского (Южного) царства, верные Господу, Его Храму и династии Давида, представляют собой настоящий Израиль.
Почему же говорится именно о «четвертой части»? На чем строится подсчет? Под властью Ровоама, сына Соломонова, остались только колена Иуды и Вениамина (III Цар. 12, 20–23), а также все левиты, бежавшие из Северного царства (II Пар. 11, 12–14). Итого – три колена из двенадцати, т. е. «четвертая часть».
Об этих евреях, оставшихся верными Господу и Его Торе, Валаам (видимо, сожалея о своем собственном отступлении от Бога) говорит: «Да умрет душа моя смертью праведников…»
Но, сказав о разрушении первого Храма за грехи народа и о гибели Иудеи («да умрет»), пророк созерцает также и возвращение из Вавилона, возрождение иудейской государственности. Поэтому он заканчивает прорицание такими словами: «…да будет кончина моя, как их!» Словом «кончина» передано существительное אחרית <���ахари́т> – «последствие», «исход [дела]», «будущность»: как Иудея «ожила» после вавилонского плена, так надеется «ожить» и Валаам. Он еще полон упования на блаженную вечную жизнь после смерти…
Выслушав упрек изумленного Валака в нарушении договора («Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты вот благословляешь?») и вновь сославшись на нерушимость воли Божьей (ст. 11–12), Валаам следует за Валаком на другое место:
И сказал ему Валак: пойди со мною на другое место, с которого ты увидишь его, но только часть его увидишь, а всего его не увидишь; и прокляни мне его оттуда. (Числ. 23, 13)
Наивный Валак! Он решил, что, коль скоро намерения приглашенного им «волхва» оказались сомнительными, так пусть уж тот, по крайней мере, имеет дело не со всем вражеским народом, а только с частью его. Хотя, впрочем, Валак мог иметь в виду и иное: как бы призывая Валаама к односторонне негативному взгляду на святой народ, он надеялся вызвать в пророке негодование и этим побудить его изречь проклятие…
И взял его на место стражей, на вершину горы Фасги, и построил семь жертвенников, и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. (Числ. 23, 14)
«Место стражей» – так переведено שדה צפים <���сэдэ́ цофи́м>, буквально «поле смотрящих», или «поле блюстителей». Под «стражами», «блюстителями» народа, созерцающими с духовных «вершин» грядущие события, Писание разумеет пророков (Иер. 6, 17; Иез. 3, 17).
Итак, после небольшого перерыва Валаам вновь оказался в состоянии духовного подъема – на «поле смотрящих». Там он, вознеся жертвы, готовится к новому наитию Духа (ст. 15–16)…
Название «Фазга» – פסגה <���Писга́> – означает «прорезание», «проникновение»: пророк, «прорезая» духовным взором тьму времен, проникает в самую суть событий.
…Получив слово свыше, Валаам опять возвращается к царю:
И пришел к нему, и вот он стоит у всесожжения своего, и с ним князья Моавитские. И сказал ему Валак: что говорил Господь? (Числ. 23, 17)
Так царь моавитян стал постепенно понимать, что главное в происходящем – воля Господа (хотя до конца он этого все-таки не осознал – см. Числ. 23, 25; 24, 10–11).
Он произнес притчу свою и сказал: встань, Валак, и послушай, внимай мне, сын Сепфоров.
Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит?
Вот благословлять начал я, ибо Он благословил, и я не могу изменить сего. (Числ. 23, 18–20)
Хорошо известно Валааму, что решение Божье неизменно. В попытке «изменить» это решение и заключался его главный грех (Числ. 22, 18–19). И вот теперь он говорит, что такого же рода ожидания со стороны Валака совершенно беспочвенны. Лишь к одному призывает он царя: «встать и внимать» возвещаемой ему воле Создателя…
Не видно бедствия в Иакове, и не заметно несчастья в Израиле; Господь, Бог его, с ним, и трубный царский звук у него… (Числ. 23, 21)
После прежнего видения о крушении Иудейского царства пророк созерцает его восстановление и – в общих чертах – эпоху второго Храма. Прежний грех народа (און <���а́вен> – «ложь», «беззаконие», в Синодальном переводе – «бедствие») прощен Богом, Он его «не видит» (в Синодальном переводе – «не видно»). Исчезает также и עמל <���ама́ль> – «тяжкий труд», «тщета», «лукавство» прежнего, допленного образа жизни (в Синодальном переводе – «несчастье»). Тогда народ часто впадал в идолослужение и прочие беззакония («авен»), и его тяжкие труды («амаль») по устройству своей жизни оказались поэтому тщетны – страна была опустошена.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу