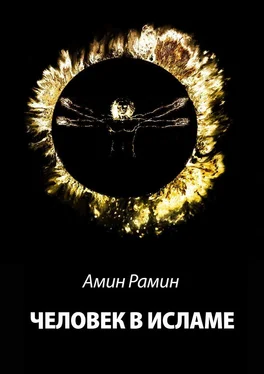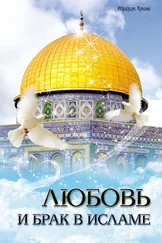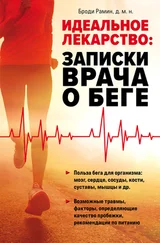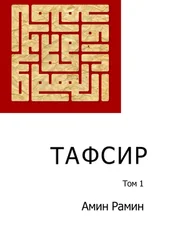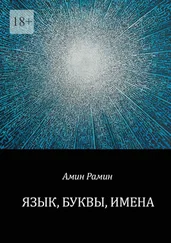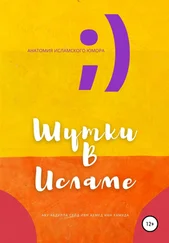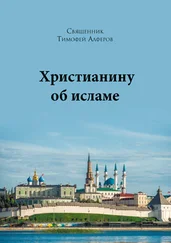Тогда мы поймем, что те люди, которых эти так называемые «учёные», вооруженные микроскопами, но не видящие дальше своего носа, называют «неразвитыми» или «примитивными», жили гораздо лучше нас. И что эта «наука» породила вал таких сил, над которыми человек уже не властен.
Как же мы дошли до всего этого?
Иногда в этом обвиняют монотеизм. Есть такая теория, что предпосылки для рождения современной западной цивилизации с её десакрализацией, рационализацией, «профанизацией» человека и мира подготовила авраамическая парадигма. Ведь монотеизм переносит все акценты на единственного Бога, по отношению к Которому мир выступает как творение, само по себе лишённое божественности. Известный немецкий социолог Макс Вебер в связи с этим говорил о «расколдовании мира» монотеизмом.
Эта гипотеза постоянно встречается тут и там в различных источниках. Обычно она раздаётся из лагеря, который можно условно назвать «неоязыческим». Представители этого лагеря или, лучше сказать, «взгляда на мир» обвиняют в бедах современного мира монотеистическую парадигму. Языческий мир якобы был целостным, живым, пронизанным сакральными силами, многомерным, а вот монотеизм всё это уничтожил, умертвил мир, убил богов, рационализировал, сделал одномерным…
Давайте я приведу ряд цитат из цикла лекций Александра Гельевича Дугина под названием «Философия традиционализма». Я сошлюсь тут именно на этот цикл, потому что там данный взгляд приведён последовательно, ясно и четко, так что нам будет легче на этом примере разобрать его.
Итак, Дугин говорит: «Вкратце схема такова. – Авраамическая семитская традиция основана на креационистском подходе, предполагающем в основе бытия радикальное различие между Творцом и Творением… Неавраамические традиции, и особенно ярко индоевропейские, утверждают, напротив, сущностное единство между Божеством и миром (человеком), между которыми различие лишь в степени или осознании „Высшего Тождества“ (индуистская формула „Атман есть Брахман“). Это – манифестационизм. Здесь этика и метафизика резко отличается от авраамизма. В некотором смысле эти позиции полярны».
Давайте сделаем тут некоторые пояснения. Громоздкими терминами «креационизм» и «манифестационизм» называют две крайних формы отношения к Божеству и миру. «Манифестационизм» происходит от латинского manifestatio, то есть «проявление». Божество манифестационизма, или, говоря иными словами, языческой традиции, «большого язычества», предстаёт как вершина огромной лестницы великого космоса, подразумевающего градацию энергий и форм, нисходящих сверху вниз и поднимающихся снизу вверх. А потому божество тут «разлито», проявлено, манифестировано во всех вещах и существах. Всё соткано из божественного принципа, а потому каждая вещь переходит в любую другую вещь. Конечно, мы сразу узнаём тут знакомую нам суфийскую ересь «вахдату ль-вуджуд», которая была контрабандой привнесена в Ислам именно из этого языческого, манифестационистского континуума.
Этой перспективе, согласно Дугину, противостоит «креационизм», то есть монотеистическая парадигма, так или иначе представленная в трёх великих авраамических религиях – иудаизме, христианстве и исламе. Про неё он говорит: «Мир в такой перспективе дезонтологизируется. Бытие приписывается только одному Богу. Всему остальному, то есть творениям, достается не самобытие, а бытие, взятое напрокат, чуждое, чужое постороннее. Всё сотворённое мыслится механически, как нечто принципиально неживое, как неонтологическая сама в себе реальность. Такая реальность, оживленная началом внешним по отношению к ней, имеет только „скорлупное“ существование, но не имеет сущности».
И далее: «…Мир нагружен совершенно иным значением. Он не имеет более прямых онтологических корней. Он вырос из ничто, он призван к бытию из ничто. Эта „призванность к бытию из ничто“ ставит этот мир в уникальное положение. Мир впервые становится локальным и свободным – свободным от той „золотой нити“, которая связывала бы его с Божеством напрямую. Он свободен от собственного духовного „я“. Он не то, чтобы иллюзорен (может быть, он и не иллюзорен), самое главное – он не обладает внутренним бытием. Если мы возведем его генеалогическую траекторию к области имманентных причин, мы не получим никакой онтологической реальности. Мы столкнемся с уникальной непреодолимой гранью, за которой ничего нет».
И в 6-й лекции он говорит: «Здесь возникает фантастическое для гиперборейского ансамбля представление о трансцендентности Творца, о том, что Бог творит мир из ничто, не из самого себя, не проявляя себя, а просто берет за онтологическую основу что-то принципиально отсутствующее, небытие, ничто. И это странное и неизвестное манифестационизму ничто каким-то всесильным жестом трансцендентного Творца приводится к особому квазибытию, поскольку мир как тварь в авраамическом контексте самостоятельным бытием не обладает, бытие дано миру извне, как бы взаймы. „Копни вещь поглубже, в ней обнаружишь смерть“ – такова максима креационизма… Это представление о Боге как абсолютно ином (ganz Andere) по отношению к миру. В этом заключается весь пафос креационистского представления о реальности».
Читать дальше