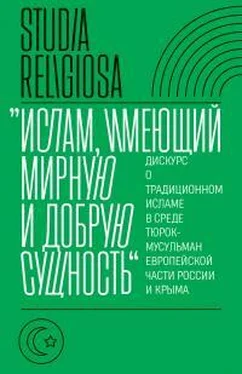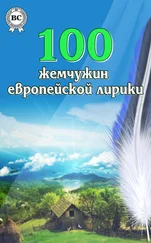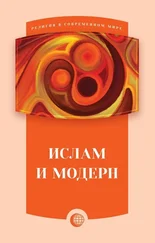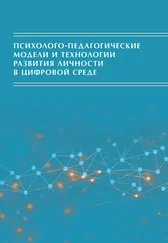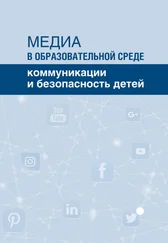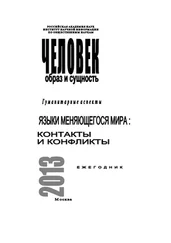В условиях критики, общественного порицания и падения авторитета среди части крымских татар пресс-служба ДУМК была вынуждена сделать специальное заявление с объяснением изменения своей позиции. Основной смысл этого заявления может быть передан фразой «они сами во всем виноваты»:
В 2014 году Муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев сделал заявление о недопустимости уголовного преследования в рамках российского законодательства лиц, которые являлись участниками радикальных религиозных течений в период нахождения Крыма в украинском правовом поле… Духовный лидер мусульман Крыма неоднократно обращался к мусульманам республики с призывом сторониться идеологии хизбут-тахрир, «хабашизма», «ваххабизма» и других радикальных течений, никоим образом не принимать участие в их деятельности, а также удерживать от этого окружающих. К сожалению, к рекомендациям ДУМК прислушались не все. Решение каждый принимает сам [660].
Одним из инструментов публичного осуждения «нетрадиционных» исламских групп представителями религиозных центров мусульман Крыма становится распространенный в российском дискурсе концепт «традиционного ислама»:
За последние 10 лет было более десятка случаев, когда мечети попадали под влияние радикальных структур, в частности ваххабитов, хизбов и хабашитов. Сельсоветы выделяли землю под строительство местной религиозной общине. В общину по закону входило более 10 человек. И если эти люди становились последователями радикальных религиозных течений, то выживали оттуда приверженцев традиционного ислама и начинали пропагандировать там свою идеологию. Так как мечети были на балансе общины, секты могли управлять объектами [661].
Примечательно, что дискурс «традиционного ислама» стал приобретать популярность не только у представителей муфтиятов, но и у крымских политиков, которые довольно быстро освоили российскую риторику. Довольно часто это выражение можно услышать, например, от депутата Государственной Думы Руслана Бальбека, который курирует разные вопросы жизни крымских татар:
В украинский период из 400 мечетей только 5 имели правоустанавливающие документы. Это давало возможность экстремистским религиозным организациям участвовать в борьбе за культовые сооружения. Традиционный Ислам не имел возможности защищаться. Площадку получали деструктивные секты. Сейчас все мечети находятся в едином каноническом и юридическом подчинении. Россия объединила мусульман Крыма и защитила от влияния экстремистских течений [662].
Так же как и в республиках Российской Федерации, в Крыму концепт «традиционного ислама» оказался вплетен в общий дискурс «борьбы с экстремизмом и терроризмом», развиваемый государственными органами, официальными мусульманскими институциями и некоторыми экспертами. В рамках этой борьбы в настоящий момент на полуострове осуществляется преследование последователей двух исламских организаций – «Хизб ут-Тахрир» и «Таблиги джамаат». По обвинению в причастности к этим организациям 65 крымских мусульман уже либо получили тюремные сроки, либо находятся под следствием [663].
Заключение
Дискурс «своего/чужого» ислама присутствует в крымскотатарском обществе с конца 1990‐х гг. «Свой» ислам ассоциируется с сохранившимися религиозными традициями крымских татар, главным образом с обрядами, сопровождавшими ключевые события жизненного цикла человека – рождение, свадьбу, похороны и т. д. Основным критерием дифференциации между «своими» и «чужими» традициями для многих крымских татар было утверждение об их наличии или отсутствии у первых двух предшествующих им поколений – поколений их родителей и бабушек/дедушек.
В дискурсе «своего/чужого» ислама, развиваемом представителями религиозных центров мусульман Крыма, используется та же апелляция к наследию предков. В качестве идеала рассматривается досоветский период, когда позиции ислама на полуострове были более прочными, а люди – более богобоязненными и усердными в поклонении. Возрождение «своего» ислама видится через сохранение обрядовых ритуалов (рождение-свадьба-похороны), а также возврат к практике исполнения обязательных предписаний ислама (ДУМК) и определенным суфийским практикам (ДЦМК/ТМ).
Для крымскотатарских политических деятелей дискурс «своего/чужого» ислама был напрямую связан с сохранением возможностей их влияния на народ, использованием ислама как инструмента его этнополитической мобилизации. В этой ситуации все идеологии, которые ограничивали возможности использования этого инструмента, воспринимались как угроза целостности народа. Поэтому по мере роста числа сторонников «чужого» ислама усиливалась их критика и предпринимались меры по противодействию им. Причем если поначалу Меджлис и ДУМК не проводили различий между разными «чуждыми» исламскими течениями, то примерно с середины 2000‐х гг. их основным идеологическим оппонентом становится партия «Хизб ут-Тахрир», активно продвигавшая свой политический проект, не предусматривавший сохранения этнической самобытности крымских татар. На этом фоне салафиты, к тому времени избравшие тактику демонстрации внешней лояльности Меджлису и ДУМК, стали рассматриваться как «меньшее зло».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу