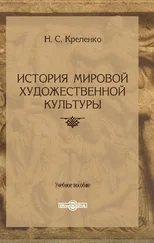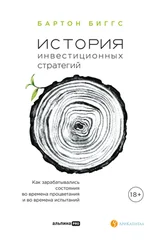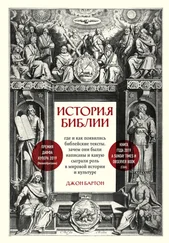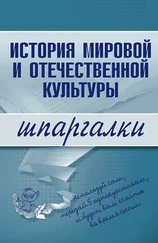В месопотамской культуре и в традициях Древней Греции очень ценили поэзию. Греция первой из культур развила «критическое» историописание в трудах Геродота и Фукидида, писавших прозой, но традиционный эпос, поэмы Гомера, как и месопотамский Эпос о Гильгамеше , написаны в стихах. «Исторические книги» Еврейской Библии, напротив, практически полностью состоят из прозы, а стихотворных повествований в Библии совершенно нет.
И тем не менее, в Библии тоже очень много поэзии. Порой, как кажется, древние поэмы словно впечатаны в прозаический рассказ. Превосходным примером станет плачевная песнь Давида о смерти царя Саула и царевича Ионафана и битве с филистимлянами на Гелвуйской горе (2 Цар 1:19–27) с ее рефреном: «Как пали сильные!» Говорится (2 Цар 1:18), что у нее даже было свое название – «Песнь Лука».
Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих!
Как пали сильные!
Не рассказывайте в Гефе,
не возвещайте на улицах Аскалона,
чтобы не радовались дочери Филистимлян,
чтобы не торжествовали дочери необрезанных.
Горы Гелвуйские!
да [не сойдет] ни роса, ни дождь на вас,
и да не будет на вас полей с плодами,
ибо там повержен щит сильных,
щит Саула, как бы не был он помазан елеем.
Без крови раненых,
без тука сильных
лук Ионафана не возвращался назад,
и меч Саула не возвращался даром.
Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей,
не разлучились и в смерти своей;
быстрее орлов,
сильнее львов они были.
Дочери Израильские! плачьте о Сауле,
который одевал вас в багряницу с украшениями
и доставлял на одежды ваши золотые уборы.
Как пали сильные на брани!
Сражен Ионафан на высотах твоих.
Скорблю о тебе, брат мой Ионафан;
ты был очень дорог для меня;
любовь твоя была для меня
превыше любви женской.
Как пали сильные,
погибло оружие бранное!
Предполагается, что эта поэма, наряду с другой, была записана в Книге Праведного (Нав 10:13 и 2 Цар 1:18); читаем мы и о «Книге браней Господних» (Чис 21:14) – но этих книг больше не существует. Есть и другие песни, которым текст не присваивает никаких имен, но многие согласны с тем, что эти песни, вероятно, скрыты в более древних разделах Еврейской Библии. Таковы, скажем, песнь, воспетая Моисеем при переходе через Красное море (Исх 15:1–18) – иногда ее в наши дни называют «Песнью Моря»; Песнь Деворы в пятой главе Книги Судей; и молитва Анны в 1 Цар 2:1–10.
Все, сказанное выше, позволяет предположить, что прозу и поэзию разделяет ясная и четкая граница. Но на самом деле это не так. В традиционной Еврейской Библии очень мало текстов, написанных в стихах, и Исх 15:1–18 – одно из редких исключений. (Печатные экземпляры Еврейской Библии, скажем, та же Biblia Hebraica Stuttgartensia [1], по которой большая часть людей изучает Ветхий Завет, часто располагают текст стихотворной строкой в книгах пророков, в Псалтири и в исторических книгах, но к такому соглашению пришли уже в наши дни – а в древние времена подобного никто не делал.) Только с XVIII века у нас появились довольно ясные критерии, позволяющие опознать стихи, а кроме того, во многих текстах разграничить поэзию и прозу очень непросто. Как принято считать, четкие и явно выраженные характеристики древнееврейской поэзии установил Роберт Лаут, епископ Лондона (1710–1787), в своей работе «О священной поэзии евреев» [2].
Лаут совершил свое открытие, увидев, что еврейская поэзия определялась не рифмой и не ритмом, а иным аспектом содержания поэм. Он назвал этот аспект параллелизмом ( parallelismus membrorum ). В еврейском стихе, как правило, пара последовательных строк либо говорит об одном и том же через синонимы, либо о разном через антонимы. Пример синонимического параллелизма – Пс 90:1.
Живущий под кровом Всевышнего
под сенью Всемогущего покоится.
Жить/покоиться, кров/сень, Всевышний/Всемогущий – это три ясных пары, выражающих одну и ту же мысль, но с вариациями в лексиконе.
Намного более редкий антонимический параллелизм (иногда называемый антитетическим) можно встретить в Притч 21:28.
Лжесвидетель погибнет;
а человек, который говорит, что знает,
будет говорить всегда [22] Англ. (NRSVA): ‘A false witness will perish, but a good listener will testify successfully.’ (‘Лжесвидетель погибнет, но кто умеет слушать, успешен и в свидетельстве’). При таком переводе антонимический параллелизм («ложное свидетельство» – «верное свидетельство», «гибель» – «успех») проявлен яснее.
.
Читать дальше
![Джон Бартон История Библии. Где и как появились библейские тексты, зачем они были написаны и какую сыграли роль в мировой истории и культуре [litres] обложка книги](/books/431685/dzhon-barton-istoriya-biblii-gde-i-kak-poyavilis-bi-cover.webp)

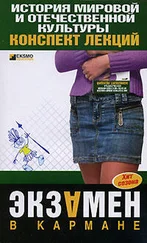
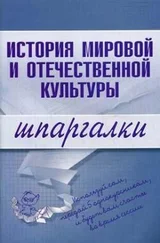
![Джон Херст - Краткая история Европы [litres]](/books/389962/dzhon-herst-kratkaya-istoriya-evropy-litres-thumb.webp)
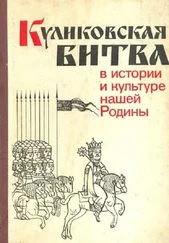
![Джон Норвич - Краткая история Франции [litres]](/books/400778/dzhon-norvich-kratkaya-istoriya-francii-litres-thumb.webp)