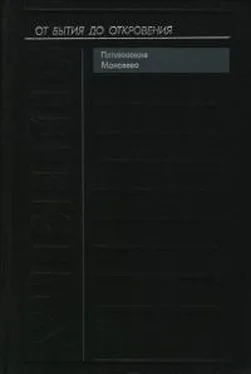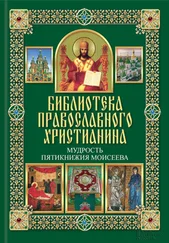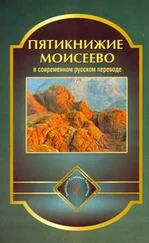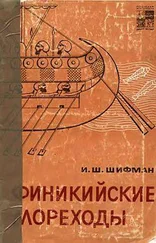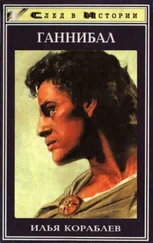Лаконизм свойствен и тем главам, в которых излагается выработанная в храмах система представлений о мире и его происхождении (см. Быт. 1:1-2:3). Очевидно, подобного рода стилистика была вообще характерна для эпистологической словесности эпохи.
Столь же органична предельная лаконичность и для повествовательной прозы. Всякого рода характеристики, если они и вводятся в повествование, кажутся краткими и обобщенными, не отличающимися конкретностью и определенностью; они фигурируют здесь как элемент действия, обоснование поведения действующих лиц и т. п. Так, в книге Бытие (3:6): «И увидела женщина, что хорошо это дерево для еды и что вожделенно оно для глаз, и приятно это дерево на вид, и взяла его плодов и ела». Или (29:17): «И глаза у Лии были слабые, а Рахиль была красива видом и красива ликом».
В то же время повествователь стремится к точности и определенности своего рассказа, в особенности в том, что касается хронологии и локализации. Так, в книге Бытие (7:11-12): «В год шестисотый жизни Ноя, во второй месяц, в семнадцатый день месяца,- в этот день разверзлись все источники великого Океана, и небесные хляби открылись. И шел дождь на землю сорок дней и сорок ночей». Столь же точные сведения о потопе мы получаем и в дальнейшем: Ной и его семья «в тот самый день» вошли в ковчег (ст. 13), потоп продолжался сорок дней (ст. 17), воды «усилились» над горами на пятнадцать локтей (ст. 20), ковчег остановился в седьмой месяц, в семнадцатый день месяца у гор Урарту (Быт. 8:4), а в первый день десятого месяца показались вершины гор (Быт. 8:5). Воды высохли на шестьсот первый год, в первый день первого месяца (Быт. 8:13), а в семнадцатый день второго месяца земля стала сухой (Быт. 8:14). Все это придает повествованию необходимую конкретность и достоверность.
Эта манера повествования восходит, несомненно, к стилистике деловой документации, где не допускались какие бы то ни было излишества, не относящиеся к существу дела. По-видимому, хотя конкретным материалом по этому поводу мы не располагаем, она была свойственна городской новеллистике и сказкам I тысячелетия до н. э. Однако глубинные истоки библейского лаконизма восходят к представлению о том, что в повествовании важно только то, «как было дело», а всякого рода субъективная информация должна безжалостно отсекаться.
В результате повествователь Пятикнижия достигает непревзойденной рельефности и выразительности. Одною фразой он может, например, показать силу и глубину человеческого чувства (Быт. 29:20): «И работал Иаков за Рахиль семь лет, и они были в его глазах как несколько дней, потому что он любил ее». Столь же впечатляюща и сцена, когда Иосиф открывается своим братьям (Быт. 45:1-3): «И не мог Иосиф владеть собой в присутствии всех, стоявших возле него, и вскричал: «Уведите всех от меня!» И не стоял никто рядом с ним, когда Иосиф открылся своим братьям. И возопил он, плача, и услышали египтяне, и услышал дом фараона. И сказал Иосиф своим братьям: «Я — Иосиф! Жив ли еще мой отец?» И не могли его братья отвечать ему, ибо испугались они его». Читая, казалось бы, бесхитростный рассказ о жертвоприношении Авраама (Быт. 22:1-19), мы ощущаем и трагедию, которую переживает Авраам, и нарастающее беспокойство Исаака. Вводя краткие диалоги действующих лиц, повествователь искусно тормозит действие, усиливает нарастающую напряженность, пока она не разрешается вмешательством божества. Речь Яхве, его обетование ставит последнюю точку, вскрывает заложенную в рассказ идею. Число такого рода примеров можно без труда увеличить.
Повествователь Пятикнижия искусно вводит и строит диалог, который служит у него обоснованию происходящего действия, а во многих случаях — его воплощению и ускорению. Достаточно прочитать, например, диалоги Яхве и Каина (Быт. 4:9-15), рассказ о том, как Яхве посетил Авраама (Быт. 18), разговор Иосифа с его братьями (Быт. 42). Речи персонажей Пятикнижия — Яхве, Авраама, Иакова, Моисея и других — отличаются яркой выразительностью. Такова, например, короткая речь Иакова, обращенная к Лавану (Быт. 31:36-42). Иаков рисует неправду Лавана по отношению к нему, Иакову. «Днем пожирала меня жара,- говорил он,- и мороз ночью, и бежал мой сон от моих глаз. Это были у меня двадцать лет; в твоем доме я работал на тебя четырнадцать лет за двух твоих дочерей и шесть лет за свой скот, и ты переменял мою плату десять раз». Мы не знаем, разрабатывалась ли в древнем сиро-палестинском регионе теория ораторского искусства; во всяком случае, какие-либо материалы такого рода до нас не дошли. Однако, если сопоставить указанные речи, в частности речь Иакова, с нормами, выработанными античной риторикой, нетрудно убедиться, что она строится в соответствии с ними: мы видим здесь вступление (exordium), повествование (narratio) и разработку (tractatio), а также заключение (conclusio). Патетика этой речи также сопоставима с патетикой судебных речей римских ораторов.
Читать дальше