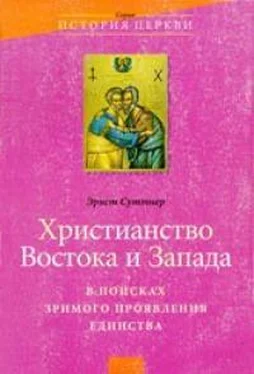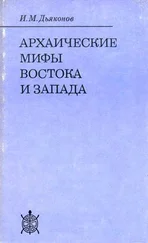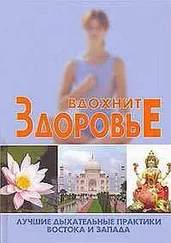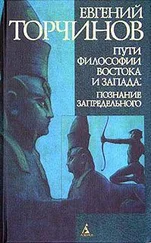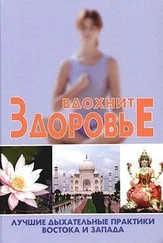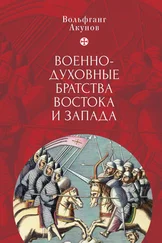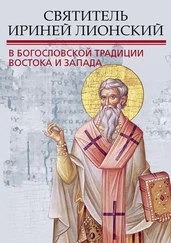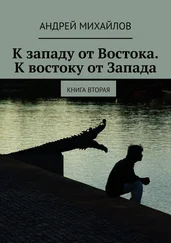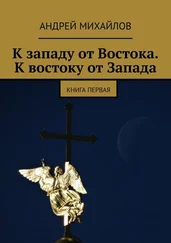У греческих христиан осталось отчетливое убеждение в том, что император несет высшую ответственность за внутренние дела церкви, которая выросла в обычное право из прецедента созыва императором I Вселенского собора; так что еще в 1393 г., когда Византийская империя усохла до размеров города-государства, Константинопольский патриарх Антоний IV будет писать Московскому великому князю Василию: «Это немыслимо, что христиане имеют церковь, но не имеют императора. Власть императора и церковь составляют великое единство и общность, и это совершенно нестерпимо, что они отделены друг от друга». (Ср. Miklosich-Müller, Acta patriarchatus Constantinopolitani, II, 190f.; выборочный немецкий перевод письма патриарха у Hauptmann-Stricker, Die orthodoxe Kirche in Rußland. Dokumente ihrer Geschichte, Göttingen 1988, S. 196-199). Если бы католический богослов попытался высказаться о церкви сравнимым образом, он должен был бы определить роль папы в тех же словах, как Антоний говорил об императоре.
В. Roberg, Das Zweite Konzil von Lyon (= Konziliengeschichte, Reihe A: Darstellungen) Paderborn 1990, S. 228 f.: «Все члены (византийской делегации) были посланцы императора, а не представители православного епископата, — как иногда утверждается и в новейшей литературе, — хотя некоторые из них сами были епископами... Православный епископат и клир, напротив, не только не послал собственного приветственного послания, но и не назвал в направленном папе письме полномочных представителей, которые могли бы говорить от его имени... По всему ясно, что появившаяся в Лионе делегация могла говорить исключительно от имени императора, и греческая церковь не имела ни одного своего представителя или даже обладающего исключительным правом наблюдателя. Знали ли, однако, соборные отцы об этих обстоятельствах дела и уяснили ли себе достаточно все недвусмысленно высказанные в документах уточнения, остается по меньшей мере открытым... Остается открытым также, придавали ли тогдашние византийцы такую важность тому, что правитель империи сам определённо представлял церковь, как об этом полагают нынешние богословы ».
Там же, с. 236.
Соглашаясь со справедливыми рассуждениями Роберга, нужно всё же задаться вопросом, вполне ли оценивает он предварительные переговоры и ход церковной жизни в предшествовавшие десятилетия. В конце концов, в течение XIII в. обе стороны были тесно связаны и знали друг друга гораздо лучше, чем это можно видеть в большинстве случаев у современных католиков и православных.
«Веря преданно и благоговейно, мы признаём, что Святой Дух исходит извечно от Отца и от Сына, не как от двух начал, но как от одного начала, не через два дыхания, но через одно-единственное дыхание; это святая Римская церковь, мать и учительница всех верующих, доныне признаёт, возвещает и учит, она придерживается этого непоколебимо, это провозглашает, признаёт и учит; это неизменное и истинное утверждение есть у правоверных отцов и учителей церкви, как латинской, так и греческой. Но поскольку некоторые, из-за незнания вышеупомянутой несомненной истины, впали в различные заблуждения, мы хотим преградить путь этим заблуждениям, осудить и отвергнуть, с согласия святого Собора, тех, которые подвержены соблазну отрицания того, что Святой Дух от века исходит от Отца и от Сына, или осмеливаются необдуманно утверждать, что Святой Дух исходит от Отца и от Сына как от двух начал, а не от одного» (Denzinger-Hünermann 850).
Roberg, там же, S. 276
Ср. диагноз относительно многочисленных расколов в Декрете об экуменизме II Ватиканского собора, ст. 14: «Наследие, переданное Апостолами, было принято в различных формах и различным образом, и уже с самого начала существования церкви в разных местах его развивали по-разному, в чем сыграли определенную роль разнообразие типов мышления и условий жизни народов. Все это, наряду с внешними причинами, а также из-за недостаточности взаимопонимания и любви, подало повод к разделениям».
Ср. соответствующие места 6 и 7-го разделов 4-й, главной части у Н. G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, Munchen, 1959.
Насколько в этой опасной ситуации политическая необходимость способствовала поискам единства, можно особенно хорошо представить со слов византийского хрониста Георгия Сфрандзи, который находился в близких отношениях с императорским домом и был хорошо осведомлен о размышлениях императора. Он писал в своей хронике: «Прославленный император Мануил в разговоре со своим сыном, императором Иоанном, наедине, только я был с ними, когда речь зашла о Соборе, сказал: „Сын мой, я знаю так истинно и точно, как будто я мог заглянуть в сердца неверных, что они пребывают в большом беспокойстве и боятся того, что мы можем достигнуть соглашения и объединиться с западными христианами. Ибо, думают они, если бы это случилось, то западные братья причинили бы из-за нас им много зла. Позаботься о делах Собора и постарайся в особенности потому, что тебя вынуждает к этому пребывание неверных в страхе. Но только не делай ничего под влиянием возбуждения, потому что, насколько я знаю наших, они не настроены искать путь к какому бы то ни было единству, соглашению, миру, любви, единодушию, но они хотят других, я подразумеваю западных братьев, обратить к нашим обычаям. Но это совершенно невозможно, я даже боюсь, что от этого может произойти худшее разделение, и это станет очевидным для неверных“ »(J. В. Papadopoulos [Hg.], Georgii Phrantzae Chronicon, Leipzig 1935, S. 177f.; нем. текст Е. v. Ivánka, Die letzten Tage von Konstantinopel, Graz 1954, S. 18f.). Возможно, это не дословная речь императора, а сформулирована хронистом. Но это выражает политику находившегося тогда в тяжелом положении императорского правительства и одновременно помогает понять, почему позже оказался удобным для османских властителей, завоевывавших одну область за другой, разрыв между их новыми христианскими подданными и Римской церковью.
Читать дальше