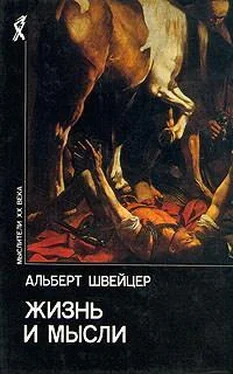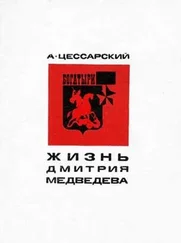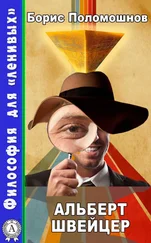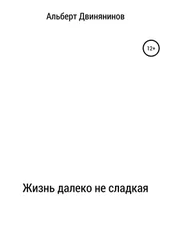Хотя этические требования Павла по сути не отличаются от требований абсолютной этики бытия не от мира сего, которую проповедовал Иисус, он тем не менее не может обращаться за поддержкой к словам Иисуса. Ибо он понимает, что то же самое теперь выражается совершенно по-иному. Ввиду изменившихся мировых условий этика, которую Иисус Христос провозглашал, должна быть заменена этикой, которую Он осуществляет в верующих. Продолжающие проповедовать этику, основанную только на словах исторического Иисуса, повинны в непростительном анахронизме. Они не принимают в расчет ту способность к добру, которую Бог с тех пор даровал верующим через смерть и воскресение Иисуса и через данный им тем самым Дух. Соответственно Павел не выводит свою этику из сохраненных традицией изречений Иисуса, а развивает ее исключительно из характера той новой формы существования, которая является результатом умирания и воскресания с Христом и наделения Духом.
* * *
Всякой мистике грозит великая опасность сделаться надэтической, т. е. поставить духовность вечного бытия в качестве самоцели. Такое отношение к духовному — как к ценному само по себе — мы находим у брахманов, буддистов и у Гегеля. Мистика эллинистической религиозности тоже не имеет этических интересов. Она стремится только к тому, чтобы через посвящение человек мог приобрести уверенность в бессмертии. Она не побуждает заново родившегося для новой жизни действовать в этом мире в качестве этической личности. Как трудно интеллектуальной мистике бытия в Боге прийти к этике, видно на примере Спинозы. Даже в христианской мистике, будь то средневековой или современной, зачастую сохраняется не сама этика, а только ее подобие. Всегда существует опасность, что мистика будет ощущать вечность просто как нечто не имеющее качеств и вследствие этого откажется видеть в этическом бытии высочайшее проявление духовности.
Однако у Павла этика полностью вступает в своя права. Те, кто во Христе, — это, собственно, уже сверхприродные существа; но Павел никогда не поддается искушению придать этой идее особый оттенок — что теперь они вознеслись выше всего того, что в природном мире считается добром и злом. Если в его представлениях о спасении и содержится немало гностического, он весьма далек от того обесценивания этики, которое имело место в более позднем гностицизме.
Некоторый оттенок гностицизма ощущается в убеждении Павла, что бытие во Христе означает свободу во всех отношениях.
2 Кор. 3:17: "где Дух Господень, там свобода".
Именно от сознания этой свободы Павел, вопреки тексту Писания, утверждает, что иудейский Закон — это относящаяся лишь к определенному времени форма этики, аннулированная смертью и воскресением Христа.
Это сознание свободы позволяет ему подняться выше мелочных страхов тех коринфян, которые считали идоложертвенное мясо само по себе опасным и, боясь случайно съесть его, отказывались от приглашений в гости к друзьям-язычникам и не покупали мясо на рынке (1 Кор. 8:1—13; 10:23—33). Став свободным человеком во Христе, Павел отказывается проводить различия между днями святыми и обыкновенными, между чистой и нечистой пищей — различия, бывшие предметом споров в некоторых общинах (Рим. 14:1—15:2).
Однако эта свобода ограничивается соображениями этической целесообразности. Свободу, данную ему знанием, он отстаивает только в тех случаях, когда это необходимо в интересах благовествования. Если его свобода оскорбляет других, он готов поступиться ею.
Когда речь идет о Законе, свободу нужно отстаивать со всей решительностью. Любая уступка в этом вопросе означала бы, что мы не ценим бытие во Христе так, как подобает.
Гал. 2:4—5: "А вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим под-смотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы свобода Евангелия сохранилась у вас" [349] "...дабы свобода Евангелия сохранилась у вас". — В синодальном переводе: "...дабы истина благовествования сохранилась у вас".
.
Гал. 5:1: "Итак, стоите в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства".
Гал. 5:13: "К свободе призваны вы, братия..."
Во всех остальных случаях Павел требует, чтобы свободный человек по этическим соображениям не настаивал на своей свободе и уступал тому, кто еще не свободен.
В вопросе об идоложертвенном мясе он советует уважать убеждения тех, кто еще не достиг знания, выраженного в словах псалмопевца: "Господня земля и что наполняет ее" (1 Кор. 10:26; Пс. 23:1) и поэтому не понимает, что любое мясо, за исключением съеденного на идоложертвенном пире, никак не связано с бесами, даже если с жертвенника идола оно попало на рынок, а оттуда — на стол, за которым сидят приглашенные в гости христиане. Не действие само по себе, а то убеждение, в котором оно совершается, является для Павла критерием того, доброе оно или злое. Но если человек, знающий, что в употреблении мяса с жертвенников идолов нет ничего плохого, своим примером соблазняет другого и тот, идя против своих убеждений, тоже начинает относиться к этому делу как к маловажному, то в этом случае первый своим знанием губит более слабого брата и, нанося раны его немощной совести, тем самым грешит против Христа (1 Кор. 8:10—12). Лучше навсегда отказаться от всякого мяса, чем служить камнем преткновения для своего брата (1 Кор. 8:13).
Читать дальше