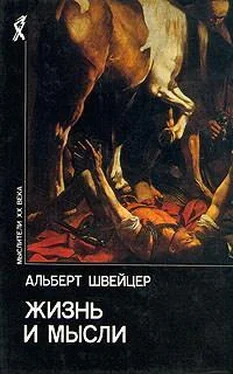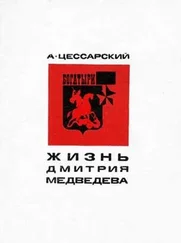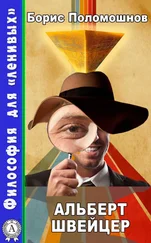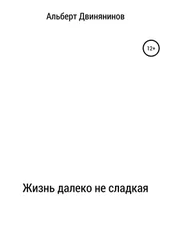Им было необходимо, говорит, пройти через воду, чтобы оживот-вориться; не могли они иначе войти в Царство Божие, как отложивши мертвость прежней жизни. Посему эти почившие получили печать Сына Божия и вошли в Царство Божие. Ибо человек до принятия имени Сына Божия мертв; но как скоро примет эту печать, он отлагает мертвость и воспринимает жизнь. Печать же эта есть вода; в нее сходят люди мертвыми, а восходят из нее живыми; посему и им проповедана была эта печать; и они воспользовались ею для того, чтобы войти в Царство Божие.
Почему же, господин, сказал я, вместе с ними взяты из глубины и те сорок камней, которые уже имели эту печать?
Потому, говорит, что эти апостолы и учители, проповедовавшие имя Сына Божия, скончавшись с верою в Него и с силою, проповедовали Его и прежде почившим, и сами дали им печать; они вместе с ними нисходили в воду и с ними опять восходили. Но они исходили живыми. А те, которые почили прежде них, нисходили мертвыми, а вышли живыми. Через апостолов они восприняли жизнь и познали имя Сына Божия, и потому взяты вместе с ними и положены в здание башни; они употреблены в строение не обсеченные, потому что они скончались в праведности и чистоте; только не имели этой печати".
Таким образом, эти немногие избранные дохристианских времен, которые "скончались в праведности и чистоте", восприняли от апостолов в преисподней весть о Христе и необходимости крещения; войдя в соприкосновение с водой предписанным Богом способом, они крестились. Тем самым условия достижения блаженства соблюдены.
Со времен Ермы никто из богословов не отваживался взяться за эту проблему и столь же смело решить ее. Все они предусмотрительно обходили проблему необходимости таинств и распространения результатов смерти Иисуса на дохристианское человечество. Дохристианские поколения достигают у них блаженства благодаря тому, что Христос в промежутке между своей смертью и воскресением проповедовал духам в преисподней, — как это предполагалось уже в Первом послании Петра (3:19—20). Проблема, однако, не столько в том, получили ли они знание об Иисусе и стали верующими, сколько в том, как могут они без реальных успехов в вере и без таинств обрести блаженство.
В то время, когда вера была эсхатологической, ни одной из этих проблем не существовало. Пока эсхатология удерживала свои позиции, догматика могла оставаться логически непротиворечивой. Впоследствии же она была вынуждена принять такие утверждения о смерти Иисуса и о таинствах, которые исторически неверны и полны противоречий. В то время как Иисус придает своей смерти значение, связанное с вхождением избранных последнего поколения в Царство Божье, догматика должна теперь считать ее относящейся к человечеству в целом. А когда в соответствии с этим она вынуждена утверждать, что таинства дают вечное блаженство, она искажает их первоначальный смысл и упирается в проблему всеобщей необходимости таинств, из которой не видно выхода.
После того как эсхатологическая концепция таинств устарела, можно было утверждать о них то или иное, но построить логически завершенное учение о таинствах было уже невозможно. Ибо таинства продолжали существовать за пределами отрезка времени, на котором они могли сохранять свой первоначальный смысл и в пределах которого они, собственно говоря, имели силу; новый смысл, который им теперь приписали, нельзя было полностью согласовать с первоначальным, да и сам по себе его нельзя было сделать непротиворечивым. В этом положении вероучение находится со времен Игнатия и Юстина по сей день.
Поскольку мир изменился, нам не остается ничего иного, как самостоятельно размышлять о спасительном значении смерти Иисуса и всего, что с ней связано, основывая наши мысли, насколько это возможно, на первоначальном и первохристианском учениях. Но если мы вынуждены взяться за эту задачу, то обязаны отдавать себе ясный отчет в том, что делаем. Мы не должны обманывать себя тем, что перенимаем всю систему догматических представлений Иисуса и первохристианства, ибо это просто невозможно. И мы не должны рассматривать неясности и противоречия, которых не можем избежать, как изначально соединенные с христианским учением; мы обязаны ясно сознавать, что они возникли как результат переосмысления исходных и первохристианских воззрений, переосмысления, которое было необходимо, чтобы они не утратили своего значения в сложившейся позднее ситуации. Мы должны не просто перенимать традицию, но точно так же, как это делали Игнатий и Юстин, воссоздать ее в новой форме творческим актом духа.
Читать дальше