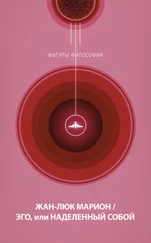. В каком же именно смысле следует понимать это утверждение? Идол отличается от иконы не своим предметом, не тем,
что он изображает, а тем,
как он изображен, а точнее, тем способом, которым мы соотносимся с тем, что видим
[5] Cf.: «Взгляд творит кумира, а не кумир – взгляд; это значит, что кумир наполняет своей зримостью интенцию взгляда, который не жаждет ничего, кроме зрения» (Marion J.-L. Dieu sans Гёте. Р. 23).
; если воспользоваться феноменологическим языком, то можно сказать, что идол отличается от иконы своим «способом явленности». Изображение – чувственное, в виде статуи или картины, или же нечувственное, в слове – оказывается идолом в той мере, в которой мы опознаем в этом изображении – Того, Кто выше всякого изображения, Того, Кто изображен быть не может. Идол, который призван сделать Бога Невидимого видимым, останавливает на себе взгляд, насыщая его, и в конечном итоге, отражает его; взгляд отражаете от идола, возвращаясь к смотрящему. Идол может вызывать и восхищение, но само это восхищение предполагает, что тот, кто восхищается, считает себя способным оценить то, чем он восхищается; я восхищаюсь тем, что соразмерно моему взгляду, моему пониманию, моим возможностям
[6] Здесь Марион неявно отсылает к Хайдеггеру, к его анализу различных способов восхищения, удивления, интереса и любопытства (cf. Heidegger М. Grundfragen der Philosophic. Ausgewahlte «Probleme» der «Logik» (Winter semester 1937/38) / herausg. von F.-W. von Herrmann. Gesamtausgabe Bd. 45. Frankfurt am Main: Klostermann, 1984. S. 163–164).
. Я смотрю на статую Аполлона и говорю – «вот это Аполлон», вот он здесь, прямо передо мной. В случае иконы это отношение разворачивается: не Богоматерь стоит передо мной, а я стою перед Ее иконой и, тем самым, перед Нею. Как говорит Марион, идол предстает как своего рода «невидимое зеркало»
[7] Marion J.-L. Dieu sans l’etre. P. 21.
, отражающее наш собственный опыт божественного – опыт, данный нам в переживании жизни и смерти, мира и войны, красоты и любви
[8] Сf. «В обличье бога идол возвращает нам опыт божественного. Идол не походит на нас; он походит на божественное, которое мы переживаем, и находит для него выражение в некотором боге, дабы мы могли его увидеть» ( Марион Ж.-Л . Идол и дистанция. С. 19). Иначе говоря, идол есть своего рода «потенциальная яма», которая затягивает зрителя (идолопоклонника!) в сферу его собственных переживаний, в его собственное Я. На феноменологическом языке Марион описывает идол как феномен, который «показывает себя, только приводя меня ко мне самому, то есть радикально индивидуализируя Я» ('Marion J.-L. Etant donne. Essai d’une phenome-nologie de la donation. Paris: PUF, 1998. P. 321).
.
Это зеркало притягивает к себе взгляд, наполняет и переполняет его созерцанием; взгляд останавливается на зримом, фиксируется на нем, око «насыщается» зрением божества. Этим идол принципиально отличается от иконы, которая сама «смотрит» на зрителя, указывая на невидимое в качестве невидимого ; ее взгляд, отличный от устремленного на нее – за нее, за пределы видимого – взгляда смотрящего, ставит его самого под вопрос, делая «видимым зеркалом невидимого» его самого [9] Cf.: «Икона не признает никакой меры, кроме собственной бесконечной безмерности» (Marion J.-L. Dieu sans l’etre. P. 33).
.
Понятое таким образом различие между идолом и иконой оказывается не метафизическим, а феноменологическим различием; соответственно, оно применимо не только к богословию иконы, не только и не столько к изображениям Божества, сколько к тому, как мы строим философский и богословский дискурс, к тому, как мы понимаем, что такое Бог, мир и я сам. Определяя Бога как высшее сущее, как причину причин, метафизика подчиняет Его законам причинности, положению об основании [10] Cf.: «Сущностная дельность сущего, даже сама prima causa, Бог, управляется principium rationis. Область влияния положения об основании охватывает все сущее, включая и его первую сущую причину» Хайдеггер М. Положение об основании / пер. О.А. Коваль. СПб.: Алетейя, 1999. С.59.
, тому, как я понимаю «бытие», «причину», «бытие объектом» и бытие «субъектом». Когда мы пытаемся описать Бога с помощью человеческого языка, в понятиях, то это понятийное описание – в той мере, в которой оно претендует на адекватность, в той мере, в которой мы опознаем в этом описании Неописуемого, – обречено на то, чтобы функционировать в качестве идола. Марион показывает, что всякое – пусть самое возвышенное – понятие Бога есть привязка Его к горизонту собственного понимания и схватывания.
Все фиксации «Бога», которые представляет нам онтологическая метафизика, будь то «моральный бог христианства», «высшая ценность», causa sui или ens supremum , суть, в конечном итоге, «понятийные идолы», скроенные по нашей собственной мерке. Такой «Бог» оказывается нам по плечу: хотя этот «Бог» бесконечно превосходит нас, мера этого превосхождения остается нам самим доступна, она нами осмыслена или определена: Он остается нам соразмерен. Именно поэтому сказать, что Бог «есть», что он благ, всемогущ, всезнающ – это уже богохульство [11] Марион объясняет, что так называемое «благочестие» зачастую является лишь формой поклонения идолам, причем гораздо более опасной, чем открытое богоборчество: «Идолопоклонничество пытается позитивно представить то, что богохульство подает негативно; богохульство злословит Бога тем же, чем идолопоклонство, как ему кажется, благо- словит; ни те, ни другие не видят, что они говорят одно и то же <���… > бессознательное богохульство идолопоклонничества может быть по-настоящему разоблачено, только если будет выявлено и непоследовательное идолопоклонничество богохульства» (Marion J.-L. Dieu sans l’etre. P. 56. Курсив автора).
, это метафизическое насилие, которое набрасывает на Него понятийную схему, превращает Его в понятие и предмет, сообразный нашему разуму, нашей оценке, сообразный тому, как мы понимаем бытие, благо, могущество, сообразный тому, как мы видим мир и свое место в мире. Как же тогда возможно богословие? Ведь говорить «о» Боге, представляя Бога как тему наших рассуждений, – значит превратить Его в «субъект предикации», а везде, где есть субъект предикации, тем самым уже имеет место мышление в терминах основания и ограничение Бога возможностями нашего мышления. Однако как богословствовать, если любое понятийное схватывание того, что есть «Бог», выстраивает между Ним и нами стену?
Читать дальше
![Жан-Люк Марион Эго, или Наделенный собой [litres] обложка книги](/books/389246/zhan-lyuk-marion-ego-ili-nadelennyj-soboj-litres-cover.webp)

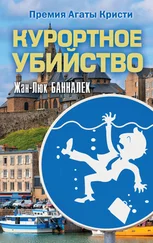

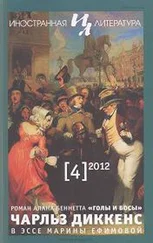

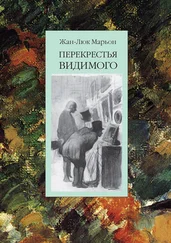

![Люк Бессон - Несносный ребенок. Автобиография [litres]](/books/390804/lyuk-besson-nesnosnyj-rebenok-avtobiografiya-litre-thumb.webp)
![Наталья Мазуркевич - Вне спектра, или Остаться собой [litres]](/books/400841/natalya-mazurkevich-vne-spektra-ili-ostatsya-soboj-thumb.webp)