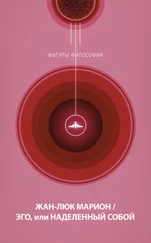Истина желания меня влечет и манит – но одновременно меня отталкивает, отвращает. Я ощущаю истину – ощущаю с той же безошибочностью, с которой ощущаю удовольствие или неудовольствие; более того, сама истина открывается мне как то, что я люблю или же ненавижу. Такую истину я не познаю, я ее испытываю : истина оказывается своего рода испытанием , которое я могу пройти или не пройти. Не я – суверенный субъект – устанавливаю эту истину, не память моя воспроизводит для меня мои неблаговидные поступки, но, напротив, эта истина, эта правда сама укоряет меня, сама творит надо мной суд [40] Marion J.-L. Au lieu de soi. P. 103.
. И этот суд – как и полагается настоящему суду – происходит в слове, в словах моей исповеди, обличающих меня и восхваляющих Бога. Confessio как исповедание истины есть прежде всего конкретная речевая и литургическая практика, и истина, которая добывается в confessio, есть истина не столько теоретическая, сколько практическая. Однако каким образом моя исповедь может быть истинной, как я, – не знающий ни Бога, ни самого себя – как я могу достичь истины? Никак – если речь идет об истине уже готовой, хранящейся в каком-то небесном месте (τόπος οὐράνιος). Но истина, о которой идет речь, – это истина, которая не только является в слове, – в словах, обращенных к Богу и к другим; слова confessio и есть место, где она делается . Истина творится одновременно вместе со мной самим как местом этой истины, тем еще-не-местом, куда я прошу Бога прийти. Исповедая истину, я творю ее – но я не являюсь ни автором, ни держателем ее, я не произвожу ее в речевом акте признания [41] В ранних работах, например в «Идоле и дистанции», Марион активно пользуется словарем теории речевых актов, разделяя в славословии иллокутивную («я восхваляю Тебя…») и локутивную («я восхваляю тебя как …») составляющие; в этой книге он предпочитает язык феноменологического описания, язык данности.
. Истина делается не во мне и не мною; напротив, я есть тот, кто сотворен, сделан истиной, посредством истины. Другими словами, та истина, которая творится в confessio, представляет собой уже не столько истину сделанную, сколько истину, творящую меня самого [42] «Истина может даваться лишь тогда, когда истина творится – ив первую очередь тогда, когда творится истина обо мне, получающем ее» (Marion J.-L. Au lieu de soi. P. 188).
. Я сам – не только мои слова – это дар, исходящий от Отца светов. Я получаю себя от Бога, я Им наделен этой самостью, Он наделяет меня самим собой.
У меня нет ничего, кроме обращенного к Богу вопля «познай меня!», но этот вопль (который в конечном итоге и есть confessio) и есть то не-место, куда я могу устремиться, где я могу пребывать. Познай меня, чтобы я смог познать себя, люби меня, чтобы я смог не только ненавидеть, но и любить себя, дай мне ту глубину, из которой я мог бы воззвать к Тебе. De profundis – даже и этого места, места богооставленности, я могу достичь лишь Тобой, в отозвавшемся на Твой зов слове.
Анна Ямпольская
Жан-Люк Марион
Вместо себя: подход Августина
Глава II Эго, или Наделенный собой
Confessio – это, в первую очередь, не акт (пусть даже речевой, перформативный), а пред стояние, проставление себя тому, к кому обращена исповедь. В акте confessio эго обретает свое условие, а значит, и свое место: собой оно становится лишь постольку, поскольку отвечает на заведомо уже обращенный к нему, но никогда не расслышанный до конца, призыв – отвечает хвалой (святости Божией) и неразрывно связанным с этой хвалой признанием (в проступках, которые покушаются на эту святость). Следует ли заключить, или ожидать, что я, находясь отныне в ситуации confessio как похвалы и исповеди, смогу занять предназначенное мне место и прийти к самому себе? Вопрос, от которого не уйти: ведь уже в « Soliloquia » эго стоит в одном ряду с Богом как то единственное, что мудрость стремится познать: «„Deum et animam scire cupio“. – „Nihilne plus?“ – „Nihil omnino“» («„Я желаю знать Бога и душу“. – „И больше ничего?“ – „Совершенно ничего “» [43] Здесь и далее цитируемые фрагменты приводятся в переводе А. К. Черноглазова. – Примеч. ред.
). Трудность состоит не столько в том, чтобы обе эти цели желания опознать («nunc autem nihil aliud amo quam Deum et animam quorum neutrum scio» («на самом деле я люблю лишь Бога и душу, не зная ни того, ни другого»)) [44] Soliloquia, 1,2, 7, ВА 5, 36. Сравните эту формулу с определением философии посредством «duplex quaestio: una de anima, altera de Deo. Prima efficit ut nosmetipsos noverimus, altera ut originem nos tram» – «двойного вопроса: о душе и о Боге. Первый служит познанию самих себя, второй – своего начала» (De Ordine, II, 18, 47, BA 4, 444).
, сколько в том, чтобы понять соотношение между ними: в данном случае доступ к Богу и доступ к своей душе суть одно, более того – в исповедальном предстоянии confessio доступ к самому себе обусловлен доступом к Богу, который предваряет меня. Но как вообще смогу я себя познать, если для этого мне сначала нужно познать Бога? Впрочем, Блаженный Августин вовсе не уверяет, будто я способен на такое познание – он явно сомневается в этом. Поэтому он просит у Бога сообщить мне не Его знание меня (оно в принципе сообщению не поддается), но лишь мое знание себя самого (ведь даже его человеку собственными усилиями не достичь). Выражение свое эта просьба находит в молитве, которая и становится источником всех дальнейших концептуальных построений: «„Potestas nostra, ipse est“. – „Itaque ora brevissime ac perfectissime, quantum potes“. – „Deus semper idem, noverim me, noverim te. Oratum est“» («„Наша сила это Он сам“. – „И потому молись кратко и совершенно, насколько можешь“. – „Господи, пребывающий всегда неизменным, позволь мне познать себя и Тебя. Вот и вся молитва“») [45] Soliloquia ., II, I, 1, ibid., 86. – Святой Бернард обернет эту формулу в противоположную: «In hac nimirum duplici consideratione spiritualis viri meditatio tota versatur. Orans denique sanctus quidam „Deus, inquit, noverim te, noverim me“. Brevis oratio, sed ffdelis. Haec enim est vera philosophia et utraque cognitio prorsus necessario ad solutum: ex priore siquidem timor concipitur et humilitas, ex posteriore spes et caritas» («Любое размышление человека духовного в этом двойном соображении безусловно уже содержится. Был один святой, молившийся так: „Дай мне познать Тебя, дай мне познать себя 4 4 . Это краткая молитва, но это молитва верующего. Ибо именно такова истинная философия, и без обоих этих видов познания честная мысль обойтись не может: одно внушает ей страх и смирение, другое – надежду и любовь»). (Sermo de divinis, V, 5, SanctiBemardi Opera, ed. J. Leclercq et H. Rochais, vol. VI / 1, Rome, 1970, p. 104).
. Но для того, чтобы познать, а тем более познать достоверно самого себя собой, молитвы и пожелания мало. Чтобы достичь такого познания, нужно найти строгую концептуальную аргументацию, которая позволила бы исходя из себя постичь себя самого. Иными словами, нужен аргумент наподобие того, что со времен Декарта известен как cogito: «Я мыслю, следовательно, я существую». Нужна «достоверная и незыблемая» истина [46] Discours de la methode, AT XT, 32, 19.
, способная открыть мне доступ к себе самому посредством мысли: достаточно прибегнуть к мышлению, чтобы попасть в то место, где находится мое я.
Читать дальше
![Жан-Люк Марион Эго, или Наделенный собой [litres] обложка книги](/books/389246/zhan-lyuk-marion-ego-ili-nadelennyj-soboj-litres-cover.webp)

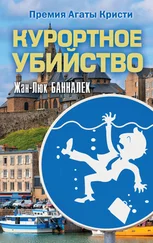

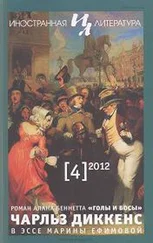

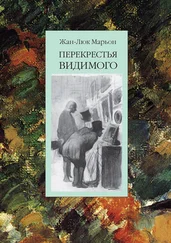

![Люк Бессон - Несносный ребенок. Автобиография [litres]](/books/390804/lyuk-besson-nesnosnyj-rebenok-avtobiografiya-litre-thumb.webp)
![Наталья Мазуркевич - Вне спектра, или Остаться собой [litres]](/books/400841/natalya-mazurkevich-vne-spektra-ili-ostatsya-soboj-thumb.webp)