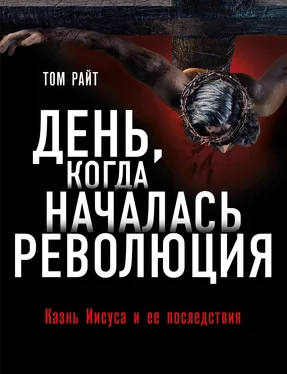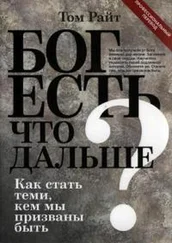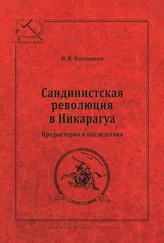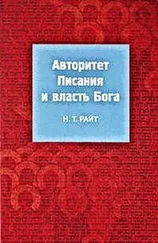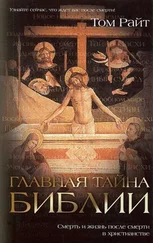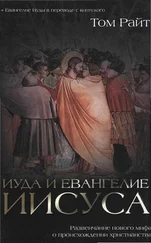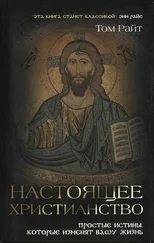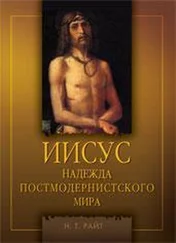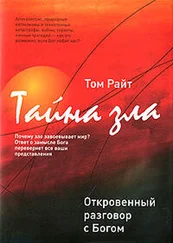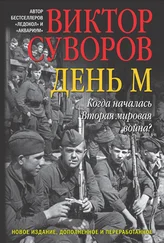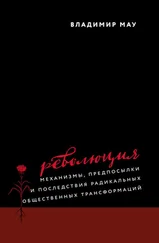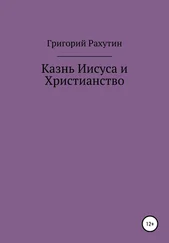Итак, работы, посвященные искуплению, как правило, игнорируют вопрос о том, как сам Иисус понимал свою приближающуюся смерть; в таком случае можно было бы ожидать от богословов большого интереса к тому, что думали о кресте и его последствиях евангелисты: Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Но такой интерес также нечасто встречается у исследователей идеи «искупления». Богословы и проповедники цитируют не только Марка 10:45, но также Иоанна 3:16 («Ибо так возлюбил Бог мир…») и некоторые другие места. Но редко встретишь глубокое или подробное исследование, посвященное тому, как каждый евангелист, пересказывая историю Иисуса особым образом, помогает читателю понять богословское значение смерти Иисуса. Иногда исследователи даже утверждают, что у некоторых евангелистов просто не было своего особого понимания этого предмета. Долгое время было модно говорить подобное о Луке, хотя, как мы увидим, это очень странно, поскольку для Луки крест крайне важен – не меньше, чем для других авторов.
Как я понимаю, эта странность в очередной раз объясняется платонизированным пониманием цели спасительного деяния Бога. Если важно только лишь спасти грешную душу, чтобы она попала в рай, то не странно ли, что и евангелисты, и сам Иисус довольно мало говорят об этом? Уже одно это могло бы побудить богословов и других христиан поставить под сомнение свои основополагающие предпосылки, задаться вопросом: «А что если неверно само наше представление о спасении?» Но в целом этого не произошло. Разумеется, существует немало исключений, но в целом те люди, которые изучают искупление и пишут о нем, относятся к четырем Евангелиям просто как к предыстории. Разумеется, рассказывая о распятии, евангелисты ссылаются на Писание, но в других местах (как считают эти исследователи) они очень мало говорят о том, каким образом эта смерть дала миру спасение. Я опять-таки предлагаю другой подход к этой теме: нам стоит найти у каждого евангелиста с его уникальной манерой те важнейшие темы, которые помогают понять всю картину.
И тут уместно сделать еще одно отступление. В некоторых кругах можно сравнивать описания жизни Иисуса в четырех канонических Евангелиях с другими текстами. Скажем, так называемое «Евангелие Фомы» и другие подобные документы сопоставляют с книгами Матфея, Марка, Луки и Иоанна, и порой исследователи отдают предпочтение первым. Конечно, это естественная реакция на то, как Церковь, оказавшись в шатком положении, начала отчаянно защищать себя, настаивая на решительном приоритете канонических книг. Но любовь исследователей к «другим евангелиям» отражает не только такую реакцию. Она не в последнюю очередь связана с философией Просвещения. Многие отмечали, что гностицизм, древняя философия, нашедшая отражение в тех самых «других евангелиях», перекликается с самой идеей «просвещения» и с некоторыми культурными проектами западного мира последних двух-трех столетий. И вот в чем суть дела: «Евангелие Фомы» и большинство других документов такого же рода ничего не говорят о распятии Иисуса, а если и упоминают о нем, дают ему совершенно иную интерпретацию. И некоторые исследователи считают, что такое понимание креста предшествовало тому, которое мы видим в канонических Евангелиях.
Иногда при этом вспоминают и о материале из источника Q (параллельные тексты у Матфея и Луки, но не у Марка). Q, по определению, не включает в себя повествования о Страстях, поскольку тут между Матфеем, Марком и Лукой есть множество пересечений. Отсюда некоторые сделали вывод, согласно которому Q отражает веру самых первых христиан, для которых смерть Иисуса не имела большого значения. Этот вывод содержит и логическую, и историческую ошибки. Из того, что повествования о смерти Иисуса у Марка, Матфея и Луки во многом совпадают, они делают неправдоподобный вывод: значит, гипотетический документ, который состоит только из параллелей у Матфея и Луки, либо ничего не знал о смерти Иисуса, либо не придавал ей большого значения.
Что же касается истории, то нам надо очень серьезно отнестись к словам Павла в Первом послании к Коринфянам 15:11 о традиционной формулировке, которая начинается так: «Мессия умер за грехи наши по Писаниям», – формулировке, которую знали все первые христиане. Коринфяне видели и других учителей, кроме Павла, быть может, в чем-то еще несогласных с ним. И Павел не мог бы этого написать, если бы ожидал, что христиане Коринфа ему ответят: «Извини, Павел, но ведь есть христиане, читающие Евангелие Фомы? Или читающие Q? Похоже, для них смерть Иисуса ничего не значит». Нет. Павел говорит: «Я ли, они ли, – мы так проповедуем, и вы так уверовали».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу