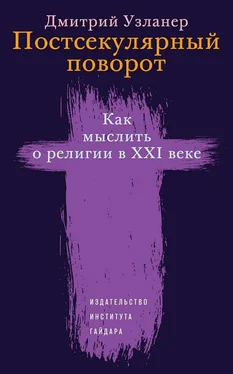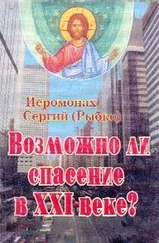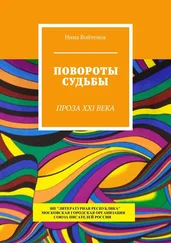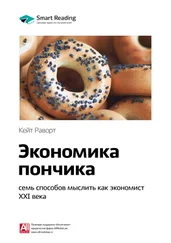Как указывает Дэвид Соркин, религиозные просветители пытались
совместить естественную религию с религией Откровения… Они рассматривали естественную религию как необходимое, но недостаточное основание веры. Одной естественной религии было недостаточно для наставления в вопросах морали и истинной веры. Только разум в паре с Откровением был адекватным ответом на поставленную задачу [438] Sorkin D. The Religious Enlightenment: Protestants, Jews and Catholics from London to Vienna. P. 13.
.
В своем стремлении к «разумной вере» религиозные просветители пытались интерпретировать Писание с использованием принципа «приспособления»: Бог, сообщая свою волю людям, всегда «приспосабливался» к конкретным временным, пространственным и ментальным особенностям своих собеседников, что требует от толкователя Библии постоянного учета этого конкретно-исторического контекста [439] Ibid.
.
Если в европейской традиции интерпретация Просвещения как сугубо секулярного проекта еще как-то смягчается пониманием того, что помимо «радикального Просвещения» была и влиятельная традиция «умеренного Просвещения» (представленного Джоном Локком и Исааком Ньютоном в Англии, равно как и многими другими мыслителями в Германии, Испании, Нидерландах и прочих странах), то в российском сознании — в силу особенностей российской культурной истории, а также во многом в силу специфики советской традиции истории идей — Просвещение почти однозначно отождествляется со своей радикальной разновидностью и до сих пор канонизируется в той форме, которую оно приняло во Франции в XVIII в. В результате противостояние верующих и атеистов в России принимает наиболее радикальные формы: просвещенческие идеи свободы, разума, веротерпимости, прогресса мыслятся как сущностно несовместимые с той религиозной традицией, которая исторически доминирует в нашей культуре. «Срединное основание», поиском которого как раз и занимались религиозные просветители, остается в русской культуре так и не помысленной альтернативой. И хотя сам Соркин завершает свое исследование грустными размышлениями о том, что проект «религиозного Просвещения» в общем потерпел неудачу, все же следы этого альтернативного Просвещения до сих пор прослеживаются в западной «тернарной» культуре.
Бинарность русской культуры, способствующая бросанию из крайности в крайность, делает переход к «тернарной» модели культуры одним из ее насущных императивов. Как указывает Михаил Эпштейн, зачатки подобного перехода прослеживались в русской культуре еще в XIX в. Однако, по мнению Эпштейна, эта попытка так и не увенчалась успехом: в середине XIX века она привела к новой поляризации, когда сошлись две очередные крайности — суперрелигиозность Гоголя и квазирелигиозность Белинского [440] Эпштейн М. Религия после атеизма. С. 160–161.
. Современную постатеистическую ситуацию Эпштейн видит как возможность развития третьего элемента, способного уравновесить традиционную для русской культуры полярность [441] Эпштейн М. Религия после атеизма. С. 218–222.
. Иначе говоря, сегодня есть очередная возможность, если выражаться словами Лотмана, «переключиться с бинарной системы на тернарную» [442] Лотман Ю. Культура и взрыв. С. 147.
. При этом Эпштейн указывает на два возможных сценария реализации этой тернарности: 1) апокалиптический синтез религиозного и светского, представленный идеей всеединства Владимира Соловьева, «Третьим заветом» Дмитрия Мережковского, «святой плотью» Василия Розанова, и 2) поиск срединного основания через создание «нейтральной полосы» в виде политико-правовых учреждений, которые не снимали бы имеющиеся противоречия, как это делает первая альтернатива, но, скорее, обеспечивали бы условия их безопасной коммуникации, способной удержать оба полюса от скатывания в «порочную спираль», когда действует принцип «Кто не с нами — тот против нас» [443] Там же. С. 145.
.
Второй, умеренный, сценарий предлагает не столько поиск «русской идеи» или новой «российской идеологии», сколько выстраивание нейтральных оснований, способных обеспечить безопасные и взаимовыгодные формы коммуникации между крайними предельными позициями (например, между секулярной наукой и религией) и предотвратить дальнейшее раскручивание «порочной спирали» русской истории с ее стремлением бросаться из крайности в крайность, подразумевающим разрушение своего оппонента до самого основания. Эти нейтральные основания вполне могли бы идейно опираться на те соображения, касающиеся устройства современного конституционного демократического общества, о которых речь шла в предыдущем разделе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу