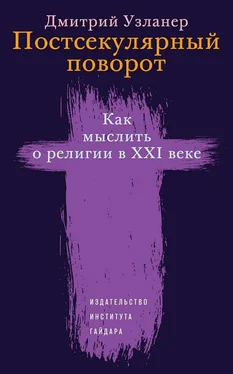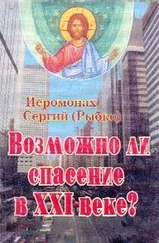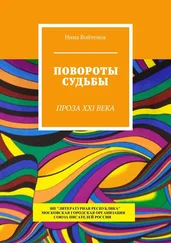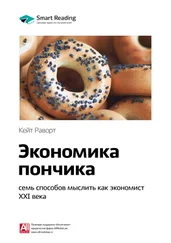В этом плане нужно всегда помнить о том, что понятия не просто репрезентируют конкретные культурные формы, они еще и поддерживают, укрепляют и продвигают их. В этом смысле понятия могут служить идеологией сложившегося положения дел или же, наоборот, мотором перемен. Понятия не просто отражают мир — они активно влияют на него. Исследователь должен всегда отдавать себе отчет в том, как и в каком ключе работают понятия, которые он использует: в какой степени они отражают реальность, а в какой трансформируют или же легитимизируют ее, выполняя те или иные идеологические функции. Не использовать науку для решения идеологических задач — не значит не понимать, какое влияние на реальность оказывает проводимое тобой исследование и используемый тобой понятийный аппарат. Нежелание видеть, как твои действия влияют на мир вокруг, просто не позволяет видеть то, что происходит вокруг, безотносительно того, замечаешь ты это или нет.
Осознание того, что у понятий есть история, что они не существуют сами по себе и являются отражением, репрезентацией сложных политических, экономических, правовых, духовных процессов, есть необходимое условие базовой грамотности современного специалиста. Понятия не существуют подобно платоновским идеям «по ту сторону небес», по ту сторону конкретно-исторического контекста, в котором обитает исследователь. Они имеют историю, тянут за собой определенное наследие, а иногда — тяжелую наследственность, от которой не избавишься простыми ритуальными восклицаниями про «свободу от ценностных суждений».
Дальше возникает следующий вопрос: что с этим делать? Да, все понятия нагружены историей, нагружены культурным контекстом своего возникновения. Они все евро- и западоцентричны. В случае «религии» можно сказать, что это понятие христиано- или даже скорее протестантско-центрично. Значит ли это, что ими больше нельзя пользоваться? Нет, но это надлежит делать с четким пониманием такой истории. Руководствоваться вопросом о том, что использование понятия «религия» позволит узнать нового о другой эпохе или же другой культуре. И одновременно — что нового позволит узнать отказ от понятия «религия» и использование вместо него какой-то альтернативы. Например, того же понятия «космографическая формация», которое провоцирует Апполонова на целый каскад ехидных замечаний (30–31). То есть можно призвать к некоторому прагматизму в использовании понятий, к отказу от их абсолютизации, к тому, чтобы не видеть в них воплощение неких вневременных универсальных истин.
Слова о «деконструировании религии» могут напугать и, в частности, сбить с толку начинающего студента, который только-только выучил названия основных религий и их главные догматы. Здесь надо четко обозначить следующее: у любой темы есть несколько уровней освоения. От самого начального, вводного, пытающегося дать базовое понимание предмета, до сложного, где от былой простоты не остается и следа и где вместо ясности сплошные вопросительные знаки.
Стоит ли вводить эту сложность в школьный курс по истории религий? Вероятно, нет. Можно ограничиться стандартным рассказом о религии как универсальном человеческом феномене и о том, как она в самых разных формах представала на протяжении всей человеческой истории, — можно рассказать о религии австралийских аборигенов, о религии древних римлян, о религии в Средневековье, Новое время и наши дни. Можно дать стандартную справку об этимологии слова «религия» с упоминанием Цицерона, Лактанция, Августина. Вероятно, такой рассказ уместен даже на первых двух-трех курсах университета. Однако тому, кто погружается в тему религии профессионально, едва ли можно оставаться на начальном уровне понимания. Просто необходимо перейти на следующий уровень сложности и ставить под сомнение практически каждый элемент этого стандартного рассказа.
На этом продвинутом уровне погружения в тему религии приходит осознание того, что никакой универсальной и всеобщей религии самой по себе не существует, что религия в современном смысле возникла относительно недавно и никакой религии в нашем понимании ни у австралийских аборигенов, ни у древних римлян, ни у средневековых крестьян не было.
* * *
Нельзя не сказать пару слов и о жанре рассматриваемой работы. Собственно, сама интонация работы Апполонова и предопределяет ее концептуальные проблемы. Книга написана в стилистике «борьба с постмодернизмом». Как это часто бывает в таких случаях, понятие постмодернизма лишено всяческого смысла и превращено просто в обозначение всего, что по тем или иным причинам автору данной работы не нравится. Апполонов пытается дать определение этому понятию (9–11), но это не добавляет ни капли ясности, так как в итоге в постмодернисты записываются буквально все подряд: и Талал Асад, и Илья Касавин, и Олег Хархордин, и Бруно Латур, и многие другие авторы (включая меня). При всем желании понять, что именно объединяет классика антропологии религии, создателя акторно-сетевой теории и, например, автора данных строк, попросту невозможно. На ум приходит только знаменитая классификация животных из «китайской энциклопедии» Борхеса.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу