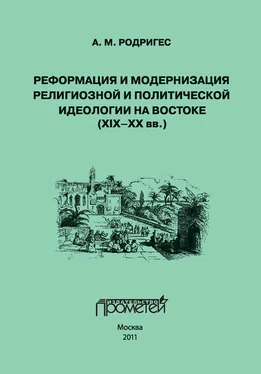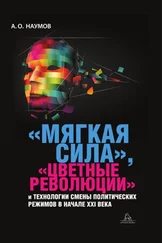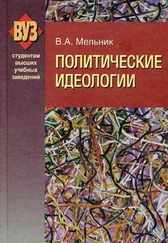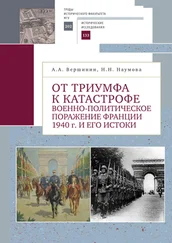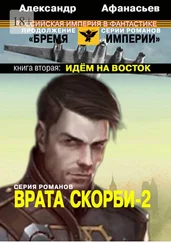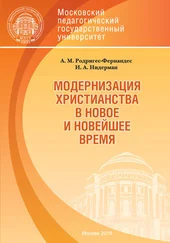Традиционная конфуцианская конструкция государства и власти должна была адаптироваться к идее «общественного договора», и модернизаторы открывали ее для европейской мысли. В результате нормы, освящавшие императорскую власть, толковались в пользу народовластия и конституционализма, а древний идеал социальной гармонии переносился в достижимое будущее (32, с. 42).
Своеобразное толкование конфуцианство получило в Японии в конце XIX в. после реставрации Мэйдзи. Ли – одно из основных понятий неоконфуцианства, которое означает «истина», «разум», толковался как универсальность. Из этого толкования легко делался вывод, что знания следует черпать из любого источника (а стало быть, и в Европе, и в Америке) (3, с. 61).
Видный китайский реформатор Кан Ювэй предлагал критически относиться к древним учениям и канонам, сопоставлять их с современными отечественными и зарубежными теориями, чтобы использовать полученные знания для проведения реформ. Еще в 1891 г. он написал сочинение «Исследование о поддельных классических канонах Синьской школы». В нем была предпринята попытка очистить древние учения от подделок в модернистском духе, и в то же время автор сам приписывал Конфуцию теорию о реформе государственного строя.
Считая, что учение Конфуция столь же «безгранично, как само Небо», и «применимо в любую эпоху и в любом месте», Кан Ювэй изображал его сторонником периодических изменений в системе государственного управления. Позже Кан Ювэй аргументировал правомерность смещения монарха-деспота и необходимость установления в стране режима конституционной монархии.
Хотя конфуцианство в Китае сошло с политической сцены в 1912 г. (в ходе так называемой Синхайской революции 1911–1913 гг.) как идеологическая основа китайской монархии, оно продолжало оказывать существенное влияние на общество. Для некоторых традиционных слоев китайской интеллигенции конфуцианство оставалось единственным приемлемым теоретическим фундаментом для формулирования новой идейной платформы, разработки проблем человека еще и в первой половине XX столетия, но оно по необходимости менялось под влиянием быстро меняющейся обстановки (9, с. 26).
В конце 1920-х – 1930-е гг. ученики и последователи Сунь Ятсена, среди которых выделялся Дай Дзитао, добивались сохранения традиционных основ китайской культуры путем соединения конфуцианства с выдвинутыми их учителем «тремя народными принципами»; другие считали необходимым оживление конфуцианства через его переосмысление, пользуясь методами современной западной философии.
На рубеже 1930-х и 1940-х гг. китайский философ Хэ Линь выступил как пропагандист новой китайской культуры на основе возрожденного конфуцианства, в котором он видел философскую и этико-политическую доктрину, религию и теорию искусства – Универсальное мировоззрение с учетом лучших достижений духовной культуры Запада, мировой духовной культуры вообще. Необходимо, писал он, «под дырявой крышей и за разрушенной стеной старого учения о ритуале отыскать не подвергнувшуюся разрушению вечную основу и не ней заново создать нормы и критерии для новой человеческой жизни и нового общества» (94, с. 57).
Идеи конфуцианства оказали влияние на китайских коммунистов, в частности на формирование воззрений Мао Цзэдуна, который заимствовал из них то, что отвечало нуждам его теории и политики.
Как уже упоминалось, после Синхайской революции конфуцианство сошло с политической сцены как идеологическая основа китайской монархии, но оно продолжало оказывать существенное влияние на общество. Для некоторых традиционных слоев китайской интеллигенции конфуцианство оставалось единственным приемлемым теоретическим фундаментом для формулирования новой идейной платформы, разработки проблем человека еще и в первой половине XX столетия, но оно по необходимости менялось под влиянием быстро меняющейся обстановки.
В современном Китае происходит процесс очищения и возрождения конфуцианства. Новые теоретики и модернизаторы стремятся выделить в нем то, что составляет, по их мнению, ценность для Китая.
§ 2. Развитие религиозной мысли на постколониальном Востоке
Новые условия развития религиозного мировоззрения
После достижения независимости в странах Востока продолжали действовать те же морально-ценностные и мировоззренческие принципы, которые создавались еще провозвестниками реформаторства. Но теперь дальнейшая разработка этих основ попала во все возрастающую зависимость от решения проблем государственно-национального и социально-экономического развития. На первый план вышла политика, а не теология, реформаторская мысль обычно вдохновлялась не столько пафосом борьбы с устаревшим прошлым, сколько настоятельной необходимостью по-новому ответить на злободневные вопросы дня. Все это сказалось на религиозном синтезе традиционного и современного. Расширилась и углубилась модернизация догматики. Чем интенсивнее и масштабнее продвигался этот процесс, тем быстрее шло освоение терминологии, понятий и отдельных положений философии, социологии, политологии, экономической науки. Таким образом, под общей конфессиональной оболочкой объем модифицированного религиозного содержания начал уступать притоку светских заимствований. Однако реформаторский синтез традиционного и современного в конечном счете все равно подчинялся исходной религиозной установке.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу