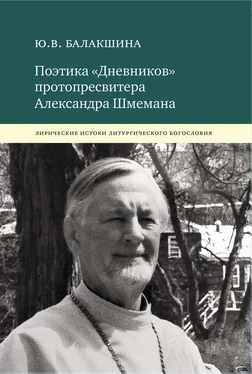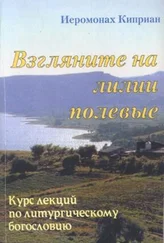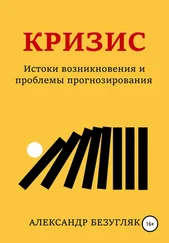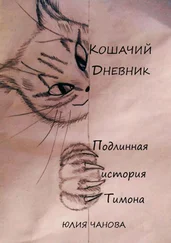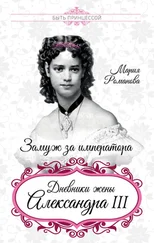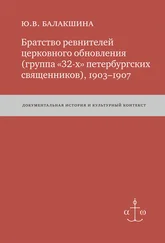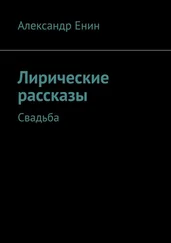В этой столь значимой для Шмемана воплощенности символа обнаруживается момент его пересечения с категорией «образа».
Восходящая к Гегелю теория художественного образа предполагает, что образ «представляет нашему внутреннему видению предмет в полноте его реальной конкретно-чувственной презентности и сущностной субстанциальности» [71] Бычков В. В. Эстетика. С. 265.
. В. В. Бычков указывает, что рождение собственно художественного образа в процессе творческого акта предполагает «наличие объективной или субъективной реальности, не всегда фиксируемой сознанием художника, но давшей толчок процессу художественного отображения» [72] Там же. С. 267.
. С точки зрения французского философа Франсуа Федье, сам процесс восприятия действительности человеком связан с тем, что воображение строит себе образы:
В самой почве чувственного созерцания с необходимостью есть нечто не воспринимаемое в созерцании, но позволяющее воспринимать все чувственное. Это нечто Кант квалифицирует как воображаемое. <���…> Следуя за Кантом, мы, по сути дела, открыли воображаемое, которое первично по отношению ко всему, что мы называем реальной действительностью [73] Федье Ф. Воображаемое // Везен Ф. Философия французская и философия немецкая. Федье Ф. Воображаемое. Власть. М.: Едиториал УРСС, 2002. С. 89.
.
Протопр. Александр Шмеман в дневниках описывает процесс «схватывания» реальной чувственно-конкретной презентности мира и в то же время осознание за этой чувственно воспринимаемой реальностью сущностной глубины:
Мне все делалось страшно интересным: каждая витрина, лицо каждого встречного, конкретность вот этой минуты, этого соотношения погоды, улицы, домов, людей. И это осталось навсегда: невероятно сильное ощущение жизни в ее телесности, воплощенности, реальности, неповторимой единичности каждой минуты и соотношения внутри ее всего. А вместе с тем интерес этот всегда был укоренен как раз и только в отнесенности всего этого к тому, о чем не столько свидетельствовала или напоминала беззвучная месса, а чего она сама была присутствием, явлением, радостью (52).
Аналогичным образом связь образа и символа описана, например, в трудах С. С. Аверинцева:
Предметный образ и глубинный смысл выступают в структуре символа как два полюса, немыслимые один без другого (ибо смысл теряет вне образа свою явленность, а образ вне смысла рассыпается на свои компоненты), но и разведенные между собой и порождающие между собой напряжение, в котором и состоит сущность символа [74] Аверинцев С. С. София-Логос: Словарь. С. 386–387.
.
Шмеман неоднократно описывает в дневнике процесс рождения образа, «отображения» реальности в своем внутреннем мире. Так, чтение воспоминаний Л. К. Чуковской об А. А. Ахматовой оставляет в его памяти «образ самой Ахматовой, царственный, как бы “трансцендентный” по отношению ко всему и ко всем, весь наполненный “служением”…» (316). Воспоминания о детстве – это «несколько “мгновений”, оставшихся живыми образами» (574). Иногда он намеренно ждет, чтобы внутри него родился, возник образ пережитой им реальности, доверяя этому способу познания мира подчас больше, чем своим аналитическим способностям:
Продолжаю после обеда. Какой же все-таки остается «образ» от этих четырех дней, в которые мы расставались только на несколько часов сна? (183).
Больший акцент на явленной, предметной стороне позволяет Шмеману связать образ с понятиями формы и ритма:
«Проходит образ мира сего». Но только «проходя» и становится мир и всё в нем наконец самим собой: даром Божиим, счастьем приобщения к тому содержанию, формой, образом которого он является (59).
Другой особенностью образа является его большая, по сравнению с символом, личностность, окрашенность неповторимым переживанием именно этого человека, включенность в живую динамику именно его жизни. Так, образом его души, его юности становится для Шмемана Париж:
Париж – это, таким образом, первая пленка души и потому как бы первая ее «фотография» (какходасевичевские «соррентинские фотографии»). И потому я не могу «наглядеться» на него, ибо он – встреча с душой, его запечатлевшей и им «явленной» или «проявленной». “Le Royaume et i’exil ” [75] «Царство и изгнание» – неточное название сборника рассказов А. Камю «Изгнание и царство» (1957).
… (401).
Характерно, что в попытке высказать свой внутренний образ Шмеман обращается сразу к двум художественным текстам: стихотворению В.Ф. Ходасевича «Соррентинские фотографии» (1926) и сборнику А. Камю «Изгнание и царство» (1957).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу