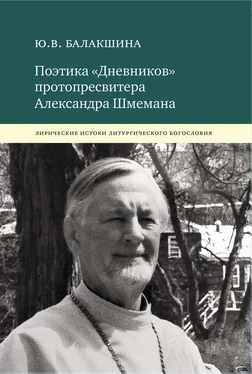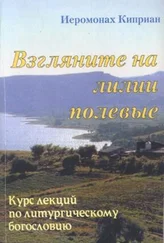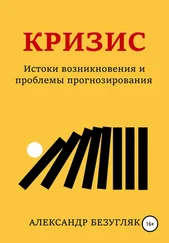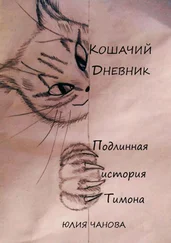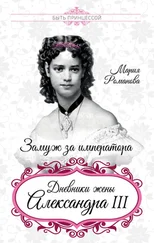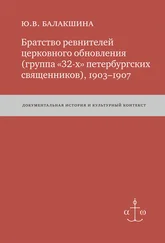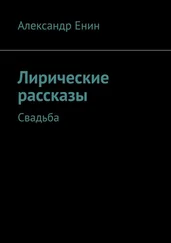Шмеман с большим интересом прислушивается к современным ему философским концепциям, рассматривающим вопрос о природе языка. В частности, на страницах дневника он делает записи в процессе чтения книги М. Фуко «Слова и вещи»:
Читаю – с трудом и с увлечением – книгу М. Фуко «Слова и вещи». С трудом, потому что, увы, не привык к этому сложному языку, да и всегда был относительно слаб в отвлеченностях. С увлечением, потому что, читая, чувствую все время, что здесь что-то очень для меня важное, хотя бы часть ответа на центральный для меня вопрос – о символах, знаках, языке и их соотношении с реальностью и с опытом этой реальности (286).
Шмеман признает адекватность современных философов в анализе языковой ситуации, солидаризируется с ними в стремлении к освобождению языка от «идеологизма». Так, покупая книгу Фуко, Шмеман записывает в дневнике: «Все то же любопытство: к gauchisme как освобождению от “идеологизма” и, в первую очередь, от Маркса и Фрейда…» (285). Отец Александр полагает, что эпоха, в которую ему довелось жить, «создала постепенно не только новый язык, но новое “чувство языка”» (245). Суть этого чувства выражается в том, что люди утрачивают внутренние критерии подлинности, точности языка и соглашаются на язык преувеличенный, фальшивый, приблизительный, абстрактный, пустой. Материалом для наблюдений о. Александра становится, прежде всего, публично сказанное слово – язык телевидения, газет, современных изданий.
Проявления этой болезни на Западе и в России могут быть различными, но ее духовные истоки для Шмемана, безусловно, едины. Так, западный мир представляет собой торжество «“discours” – “идеологического” языка, или языка, подчиненного системе отвлеченных понятий, языка с ключом…» (602). Тогда как «молчавшая столько десятилетий Россия» «захлебывается в декламации» (512), говорит «каким-то приподнято-фальшивым тоном и при этом безответственно в смысле “семантики”» (334). В том и другом случае имеет место расхождение «слова, предложения со смыслом» (245). Шмеман обращает внимание на то, что его любимый французский писатель Леото, чувству языка которого о. Александр безусловно доверяет, пишет ряд слов в кавычках: «Он пишет “les jeunes” [64] «Молодые» (фр.). – Прим. ред. «Дневников».
в кавычках, потому что это слово стало означать что-то новое, какую-то собирательную “молодежь”, что-то – ив этом все дело – чего в действительности нет» (245). Этот прием использует и сам о. Александр Шмеман, когда чувствует, что используемое им слово обозначает в современном контексте не то, что диктует ему его собственное чувство языка или традиция церкви: «На заседании митрополичьего совета в Gramerсу Park Hotel слушал скучнейший дебат о пенсионном фонде. Мучение от уровня всей этой “церковной жизни”» (18).
Отец Александр анализирует те общественные механизмы, те эпохальные сдвиги, которые заставляют отдельного индивидуума принимать, в большинстве случаев безличностно [65] Тема «деиндивидуализации» правилосообразной, в том числе и языковой, деятельности является темой философских исследований Солома Крипке. См.: Kripke S. A. Wittgenstein on Rules and Private Language. Cambridge: Harvard University Press, 1982.150 p.
, такие условия «языковой игры». Среди них: I. «идеологизм» – «утверждение как конкретного, реального того, чего наделе нет: “lesjeunes”, “рабочий класс”, “история”, “Vhumain” [66] «Человеческое» (фр.). – Прим. ред. «Дневников».
и т. д.» (245); 2. «инфляция» – ситуация, когда в жизни и в языке «все бесконечно раздуто, преувеличено, искажено», когда «про уборщика в большом магазине говорят..<���…> “maintenance engineer ” [67] «Инженер по обслуживанию» (англ.). – Прим. ред. « Дневников».
» (114); 3. «отрыв культуры от жизни, превращение ее в нечто самодостаточное: творчество из ничего, но потому из “ничего” и состоящее, безответственная игра “форм” и “структур”» (245). На судьбу современного русского языка повлияла также история России в XX веке: «…Создан он был элитой, но очень скоро попал в руки “неэлиты”, того, что Солженицын называет “образованщиной”» (512).
В конечном итоге процессы, происходящие в языке, имеют духовные корни: слово начинает прикрывать или являть пустоту, у человека вырабатывается навык «заговаривания» «отсутствия чего-то: подлинной глубины, подлинного опыта» (513)^ что постепенно приводит к разрушению связи между словом и вещью, языком и реальностью.
Поэтому выбор языка, как и любой духовный выбор, может и должен быть, по Шмеману, личностным выбором. Человек может не выбирать духовное пространство, где «все слова “жижеют”, наполняются какой-то водою, перестают что-либо означать» (109). Но даже если весь мир говорит на новом девальвированном языке, перед человеком все равно остается возможность и задача «проверки языка» (513). Настраивать и очищать язык призваны писатели, как люди, обладающие особым даром слова: «И потому подлинный писатель должен все время его выверять, настраивать, очищать от легкости и “приблизительности”» (512). Для человека же, не обладающего писательским талантом, чтение текстов, сохраняющих качество правдивости языка, может служить «изумительным “экзорцированием”» (602) опустошенного, фальшивого языка эпохи. Для самого о. Александра Шмемана таким «экзорцированием» всегда оставалось чтение книг Леото, обладавших теми качествами «точности, собранности, дисциплины, “выверения”» (512), которых, по мнению о. Александра, не хватало многим русским авторам.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу