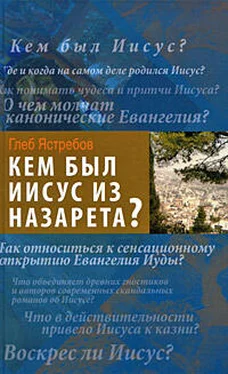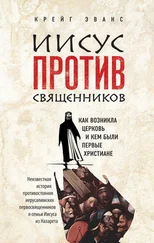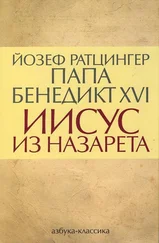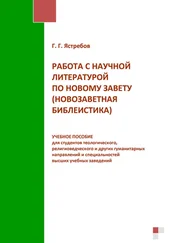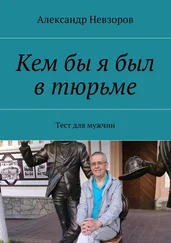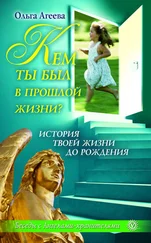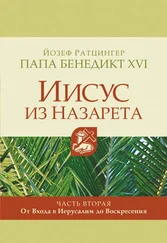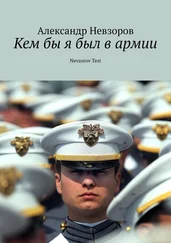Если смотреть на Мк 7:1–15 этими глазами, становится ясно, что перед нами один из образцов той пророческой критики, которую возродил Иоанн Креститель, а за ним Иисус. Мк 7:14–15 — это не отмена кашрута, а обличение неправильного отношения к нему. Параллели к нему, отчасти проливающие дополнительный свет на него, мы находим и в других слоях традиции. Например:
Горе вам, книжники и фарисеи! Лицемеры! Вы даёте десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в Законе: справедливость, милость и верность. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие!
Горе вам, книжники и фарисеи! Лицемеры! Вы очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой! Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их!
Мф 23:23–26; ср. Лк 11:39–42; Фома 89:1–2
Очень многие библеисты считают эти слова, как и большую часть обличений в Мф 23, поздней выдумкой, отражающей не мнение Иисуса, а тяжёлые отношения между иудеохристианской общиной евангелиста и зарождающимся раввинистическим движением. При этом считается, что нарисованный в Мф 23 портрет фарисейства крайне тенденциозен. Среди аргументов приводят, в частности, тот факт, что учения Мишны и Талмуда, содержащие ссылки в том числе и на мудрецов I века, не доносят до нас подобного законничества, но, напротив, часто отражают заботу о социальной справедливости и благородные этические акценты.
Эту аргументацию нельзя автоматически сбрасывать со счётов. Матфей (а в какой-то степени и другие евангелисты) и впрямь бывают несколько пристрастны к вождям той части иудаизма, которая не пошла за Иисусом. Однако не следует забывать, что при кодификации Мишны в начале III века далеко не все предания вошли в нормативный корпус: отсев шёл по многим параметрам, в том числе и по этической зрелости. Иными словами, те учения и мнения более ранних учителей, которые были признаны этически или доктринально несостоятельными, были отброшены. (Вообще не стоит считать, что Иисус и ранние христиане были единственными, кто критиковал фарисеев. В самих же раввинистических текстах есть множество примеров обратному.) По высотам Мишны и Талмуда не стоит априорно судить о том, с чем можно и с чем нельзя было столкнуться в Иерусалиме 20-х годов первого столетия. Возьмём для сравнения такую приблизительную параллель: сколько прискорбных злоупотреблений мы наблюдаем в любой христианской конфессии наших дней! Если взять, к примеру, российское православие (или польское католичество, или американское протестантство) — всегда ли оно соответствует тому, что заповедуют даже официальные церковные документы или каноническое право? Всегда ли можно по поведению и учениям святых и праведников судить о мнениях священников и пасторов? Да и в прошлых веках: отражают ли «Добротолюбие» и святоотеческие труды все мнения клириков первого тысячелетия? Отнюдь. И так в любой конфессии, в любой религии. Вряд ли иудаизм времён Иисуса был исключением. Читая замечательные учения того же Гиллеля, знаменитого фарисея и старшего современника Иисуса, мы должны понимать, что далеко не все фарисеи были как Гиллель.
Мк 7:1–15 и Мф 23 отражают типичную резкую пророческую критику. Практически все исследователи согласны, что Иоанн Креститель и Иисус были эсхатологическими пророками-обличителями, призывавшими народ Израилев и его элиту к покаянию. Так почему же их смущает наличие в евангельской традиции подобных текстов? Разве не очевидно, что это материалы именно того плана, который мы должны были бы ожидать? Иудаизм и Тору они никоим образом не отменяют и не критикуют, но критикуют лишь — характерным для профетизма образом — уклоны в сторону ритуализма и юридического формализма. Те трагические последствия, которые Мф 23 имело подчас в поздней христианской экзегезе (использование в целях антисемитизма и антииудаизма), не должны закрывать нам глаза на тот факт, что Иисус предстаёт в них наследником пророческой традиции Израиля.
3. «Антитезы» Нагорной проповеди
Подавляющее большинство учёных согласны, что Нагорная проповедь представляет собой искусственный конструкт. Иными словами, она является не стенограммой конкретной проповеди, произнесённой однажды Иисусом на горе, а собранием этических учений, первоначально высказанных в самых разных ситуациях.
Важную часть Нагорной проповеди составляют так называемые «антитезы»: речения, начинающиеся формулой «древним было сказано... а я говорю вам». Поскольку в них комментируются важные заповеди Торы и излагаются фундаментальные этические принципы, рассмотрим их все по очереди. К сожалению, в прошлом они также подчас интерпретировались как выход за рамки иудаизма, нарушение основ Торы.
Читать дальше