Более того, Хальбвакс соглашался, что воспоминание о прошлом событии у нас присутствует лишь из-за его актуальности для настоящего. Один из его последователей поясняет:
Для Хальбвакса прошлое есть социальный конструкт, сформированный, в основном, если не полностью, заботами настоящего…Он пытается доказать, что верования, интересы и желания настоящего формируют различные представления о прошлом, как они проявляются соответственно в каждой исторической эпохе.
Отметим ключевой момент: прошлое есть «социальный конструкт», а не только личное воспоминание. 7
Это касается и прошлого, которое мы не пережили лично. Среди прочего Хальбвакс интересовался коллективной памятью в религии. Он утверждал, что религиозная память обычно работает так же, как и коллективная:
Она не хранит, а реконструирует прошлое с помощью оставшихся от него материальных следов, обрядов, текстов, традиций, а также и социально-психологических данных недавнего происхождения – то есть с помощью настоящего. 8
Более того, как и в случае с коллективной памятью, когда люди вспоминают прошлое своей религии – великих персонажей, движения и события – они реконструируют его, адаптируя «образ древних фактов к верованиям и духовным нуждам настоящего». В результате «реальность прошлого уже не в прошлом». 9
Книга Хальбвакса была абсолютно новаторской и сохраняет влияние даже в наши дни, через девяносто с лишним лет после публикации. Конечно, не обошлось без критики, особенно в адрес радикальных тезисов. Социолог Барри Шварц, один из ведущих специалистов по коллективной памяти, считает, что Хальбвакс перегнул палку, видя в настоящем ключ к прошлому. По Шварцу, перед нами двусторонний процесс: да, люди помнят прошлое из-за его актуальности в настоящем, и события в настоящем влияют на воспоминания о прошлом, – но и события в прошлом влияют на осмысление настоящего! Кроме того, Шварц полагает, что Хальбвакс проводил слишком жесткую грань между «памятью» и «историей». Они тесно переплетены. Память влияет на то, как мы конструируем прошлое, – но и прошлое влияет на то, как мы вспоминаем в настоящем! И всегда стоит интересный вопрос: как и почему мы вспоминаем прошлое именно так, а не иначе? Особенно интересно сопоставлять реальное прошлое с памятью о нем в разных социальных группах.
В качестве примера Шварц блестяще проанализировал коллективные воспоминания об Аврааме Линкольне (см. главу 1). Разумеется, нечто подобное можно сделать с любой личностью прошлого, даже историческим Иисусом. О том, как подходить к изучению памяти о таких фигурах, много спорят социологи и историки культуры. Особенное влияние имели исследования немецкого египтолога Яна Ассмана.
Ян Ассман и изучение «истории памяти»
Ассман согласен с Хальбваксом в отношении социального характера памяти: воспоминания о прошлом создаются коллективно, а не индивидуально; наши реконструкции прошлого выстроены вокруг рамок, созданных обществом. Мы организуем свои мысли о том, что происходило ранее, основываясь на нынешнем общении с людьми. Когда мы вспоминаем «холодную войну», Вторую мировую войну или войну во Вьетнаме, это бывает не случайно: что-то в нынешней ситуации вызвало ее в памяти. Более того, нашу память об этих катастрофических событиях формирует наша нынешняя ситуация.
Все это палка о двух концах. С одной стороны, если современного стимула для воспоминания о прошлом нет – ничто в настоящем не заставляет вспоминать былое – эта часть прошлого будет забыта, стерта из памяти. С другой стороны, изучение коллективной памяти о прошлых событиях может многое рассказать о социальных группах, которые конструировали и сохраняли эту память. Как мы уже сказали, это «мнемоистория», «история памяти».
В одной из самых важных своих книг («Моисей египтянин: память о Египте в западном монотеизме») Ассман углубляется в мнемоисторию: как Моисея помнили в ключевые моменты западной цивилизации. Он объясняет:
В отличие от истории в собственном смысле слова, мнемоисторию интересует не прошлое как таковое, а прошлое, как оно вспоминается. 10
Иными словами, «мнемоистория анализирует значимость, которую настоящее приписывает прошлому». 11Скажем, она не пытается установить, что известно о Моисее: какие факты относительно надежны. Ее волнует то, как Моисея помнили в разные эпохи и в разных странах.
Ассман прослеживает эту память с древности до Зигмунда Фрейда. Вполне можно утверждать, что Моисей – самый важный персонаж Ветхого Завета. Это великий пророк, избавитель и законодатель народа Израиля. Четыре из пяти книг Пятикнижия (от Исхода до Второзакония) прямо или косвенно повествуют о нем.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
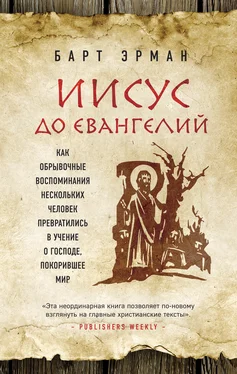









![Барт Эрман - Триумф христианства [Как запрещенная религия перевернула мир] [litres]](/books/406447/bart-erman-triumf-hristianstva-kak-zaprechennaya-re-thumb.webp)
![Барт Эрман - Почему мы страдаем? [Как получилось, что в Библии не нашлось ответа на этот вопрос]](/books/406894/bart-erman-pochemu-my-stradaem-kak-poluchilos-cht-thumb.webp)
